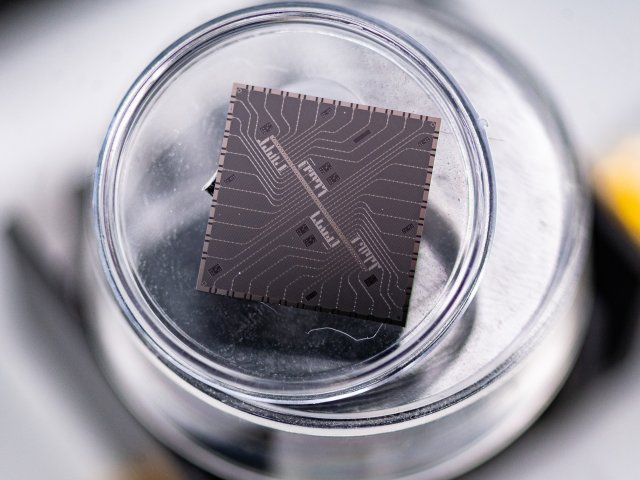Чем занимаются ученые в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН? Какие направления работы наиболее важны и перспективны? Об этом рассказывает академик Владимир Константинович Иванов, директор ИОНХ РАН.
Владимир Константинович Иванов. Фото Ольги Мерзляковой / "Научная Россия" архив
Владимир Константинович Иванов — российский ученый-химик, доктор химических наук, академик РАН. Сфера научных интересов — развитие фундаментальных основ получения функциональных материалов. Соавтор более 500 научных статей, восьми монографий и 20 патентов РФ. Председатель комиссии РАН по популяризации науки. При участии В.К. Иванова созданы принципиально новые функциональные материалы на основе редокс-активных оксидов переходных и редкоземельных элементов для терапии и диагностики (тераностики) социально значимых заболеваний; предложены новые подходы к реализации золь-гель-технологий; созданы новые оксидные материалы — перспективные компоненты электрореологических жидкостей и эластомеров для электроуправляемых механических устройств и др.
— В декабре исполнилось 165 лет со дня рождения основателя вашего института — академика Н.С. Курнакова. Но я вижу у вас на столе книжку, которая гласит, что 275 лет назад возникла химическая наука в России, и именно тогда началась история вашего института. Так как же правильно считать?
— Как у любого крупного института, у нас есть много важных исторических дат. И те, что вы назвали, действительно для нас существенны. Официальная дата основания института — 1934 г. Отдельные подразделения института были созданы в 1918 г., но вообще мы гордимся тем, что ведем свою родословную непосредственно от Михаила Васильевича Ломоносова, от его химической лаборатории, основанной указом императрицы Елизаветы Петровны в 1748 г. В 2023 г. мы отмечали 275 лет этой лаборатории. Это было достаточно интересное мероприятие, которое потом имело некие важные следствия: нам удалось создать комиссию по истории химии при академии наук.
— А еще вы занимаете должность в академии наук, связанную с популяризацией науки.
— Сейчас мы в академии наук перезапускаем комиссию по популяризации науки. Она некоторое время не функционировала, сейчас предстоит оживить ее деятельность, тем более что она относится к уставной и этим надо очень серьезно заниматься.
— Если это уставная деятельность РАН, означает ли это, что каждый академический ученый обязан популяризировать свою науку?
— Хотелось бы на это надеяться, потому что в любом случае ученым необходимо разговаривать с обществом.
— Для меня это очень важный вопрос, потому что встречаются ученые (к счастью, не очень часто), которые наотрез отказываются общаться с журналистами: им некогда, и вообще им не хочется опускаться на популярный уровень.
— Известный ответ состоит в том, что если ты объяснил окружающим, которые не специалисты в твоей области, чем ты занят, к какому результату это может привести, то ты и сам в чем-то сможешь лучше разобраться. Да и вообще, мне кажется, общество имеет право знать, чем занимаются ученые.
— На что тратятся их налоги. К тому же, если это скрывать, как творческая молодежь узнает, что интересного происходит в науке?
— Согласен. Хотелось бы, чтобы молодежь часто бывала в тех же академических институтах, в вузах-то ее много по определению. Надо организовывать поток молодежи в научные институты — показывать, рассказывать. Мы достаточно много работаем и со студентами, и со школьниками, принимаем участие в программе «Академический класс в московской школе». Я вижу у школьников вполне живой интерес к науке.
— Вернемся к личности В.С. Курнакова, основавшего ваш институт. Что он собой представлял как ученый?
— Думаю, в то время эта фигура была одной из самых заметных. Наверное, он один из немногих химиков, который был академиком и Императорской академии наук, и потом уже Академии наук СССР. Награды были и имперские, и советские — он сумел соединить эти две эпохи. Благодаря его деятельности во многом у нас не случилось какого-то существенного провала в области химии, потому что Курнаков был не только ученым, но и великолепным организатором науки. Он открыл физико-химический анализ — об этом знают многие. Но он принимал очень активное участие и в работе КЕПС — комиссии по изучению естественных производительных сил. Без него в 1920-е гг. в Советском Союзе, как мне кажется, вообще не происходило ни одного события в области химии и материаловедения. Все было завязано на нем — это была действительно ключевая фигура.
— Чем была вызвана необходимость создания Института общей и неорганической химии?
— Тут имеет смысл немного обратиться к истории. 1918 г. — представьте себе это время.
— Гражданская война, интервенция.
— А Курнаков вышел с инициативой создания отдельного института физико-химического анализа. Конечно, те институты по сравнению с современными довольно скромные, небольшие, тем не менее этот институт был создан. Параллельно в 1918 г. другой наш великий ученый Лев Александрович Чугаев основал Институт платины. Эти два института в достаточно тяжелых условиях нормально функционировали, и в 1934 г. было принято решение о том, чтобы эти институты объединить, присовокупить к ним химическую лабораторию академии наук. Это объединение было сопряжено с переездом академии наук в Москву. Так в 1934 г. из нескольких организаций возник ИОНХ.
— Интересно, почему возникла идея создания Института платины?
— На самом деле я привел сокращенное название — там по большому счету изучались и остальные металлы платиновой группы (полное название — Институт по изучению платины и других благородных металлов. — Примеч. ред.). Тут тоже без экскурса в историю не обойтись: технология извлечения, выделения и получения ковкой платины в определенной степени имеет и российские корни. Хотя подобная практика существовала и в других странах, именно в России в 1820-е гг. была налажена чеканка платиновой монеты. Здесь нам точно принадлежит приоритет. В России большими тиражами чеканились из уральской платины трех-, шести- и двенадцатирублевые монеты. Потом в силу политических обстоятельств технологии производства были утрачены (к сожалению, нам уже привычно это слово). Аффинаж природной, сырой платины проводился в Германии, Великобритании. Нам приходилось отправлять свою платину за границу, и это до поры до времени не было проблемой, пока с Германией были замечательные отношения, но потом случилась Первая мировая война и возникла необходимость воссоздавать платиновую промышленность, включая аффинаж металлов платиновой группы и производство солей, препаратов. Это все требовало соответствующих технологий. Поэтому решение о создании Платинового института было принято, я так понимаю, достаточно легко.
— Потом он стал частью Института общей и неорганической химии, который сейчас носит имя академика Н.С. Курнакова. А сейчас у вас платиной занимаются?
— Занимаются, и в этой области делается много нового. Но я бы хотел начать с того, что сейчас вообще происходит в неорганической химии. А происходит очень заметный прогресс. Простой пример, который любому понятен, — Нобелевские премии по химии. В 2019 г. Нобелевку по химии присудили за литий-ионные аккумуляторы. В 2023 г. премия была дана за квантовые точки. Ну и в прошлом году — за металлорганические каркасы. Все эти три премии относятся к домену неорганической химии и неорганического материаловедения. И это показывает возросший интерес, я бы сказал, ренессанс интереса к неорганической химии. Наверное, нужно добавить, что все эти работы начинались еще в ХХ в. Сейчас я вижу, что, безусловно, есть очень интересные исследования в области неорганической химии и, может быть, некоторые из них тоже получат какие-то весомые награды. В этом контексте обязательно надо упомянуть открытие максенов — это неорганический аналог графена, тоже квазидвумерные или просто двумерные структуры, но состоящие не только из углерода. Они представляют собой квазидвумерные карбиды, нитриды или карбонитриды переходных металлов.
Второе, о чем можно упомянуть, — это открытие так называемых нанозимов: наноматериалов, которые имитируют свойства природных ферментов. Мне кажется, это открытие тоже будет иметь большие перспективы, в том числе мировоззренческие. По сути, неорганический мир проявляет свойства, присущие органическому миру. Это само по себе очень нетривиально.
— Раньше это не было известно?
— Нет, это было открыто в 2005–2010 гг., тогда этот термин и возник. Сейчас это направление активно развивается.
— Не означает ли это, что нет никакого органического и неорганического мира? Что это разделение придумали мы?
— Мы любим задавать какие-то границы. Но все-таки в этом случае границы действительно существуют — речь идет о взаимодействии живой и неживой природы, которое осуществляется разными способами. То, что казалось абсолютно инертным, то, что не могло даже теоретически взаимодействовать с живыми организмами, оказывается, взаимодействует, и очень активно.
— Звучит удивительно!
— Это открытие влечет за собой множество последствий. Сейчас очень громко звучит сильно политизированная тема микропластика, нанопластика. Но вопрос не только в том, как этот пластик накапливается в природной среде, потом в живых организмах, но и, например, как он взаимодействует с живыми клетками. Здесь тоже есть подходы, связанные с изучением энзимоподобной активности нанопластика, и они могут оказаться продуктивными.
— Для того чтобы очистить Мировой океан от полимерного мусора?
— Скорее для того, чтобы спрогнозировать, есть ли действительно вред для человека, для биоты. Относительно способов очистки от мусора — пока, боюсь, это может оказаться не слишком легко. Как всем известно на бытовом уровне, испачкать значительно проще, чем потом очистить. Но все же, возвращаясь к теме нашего разговора, хочу сказать, что, конечно, ренессанс неорганической химии мне лично очень заметен, и я думаю, что впереди нас ждут очень интересные открытия в этой области.
Владимир Константинович Иванов. Фото Ольги Мерзляковой / "Научная Россия" архив
— Что делается в вашем институте в этих направлениях?
— У нас ведутся работы во всех без исключения указанных направлениях. Начать хотел бы с того, что у всех сейчас на слуху те самые пресловутые торговые войны, которые ведут между собой США и Китай, и эти войны связаны с редкоземельными элементами. Поэтому интерес к редкоземельным элементам у широкой публики кратно вырос. В прошлом году произошло достаточно приятное для нас событие: наш институт в консорциуме с Институтом физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН и Кольским научным центром получил финансирование от Правительства РФ на создание научного центра мирового уровня как раз в области рационального использования редкоземельных элементов. Мы фактически будем обеспечивать научное сопровождение этой области, причем надеемся охватить весь спектр этих исследований, начиная от добычи, разделения, переработки до изготовления неорганических материалов на основе редкоземельных элементов.
— В нашу предыдущую встречу мы много разговаривали про оксид церия. Насколько я понимаю, это как раз пример одного из нанозимов, аналогов ферментов. Как он поживает сегодня? Вы его внедрили?
— Наш интерес к оксиду церия не исчез. Сейчас нас интересуют тонкие механизмы, которые обеспечивают биологическую активность этого материала, его возможные биомедицинские применения. Что касается внедрения, есть вполне зримые примеры. Например, совместно с хорошо известным Российско-Вьетнамским тропическим центром мы разработали и протестировали в полевых условиях во Вьетнаме текстильные материалы и полимерные композиты, включающие в себя оксид церия. Они обладают неплохим биоцидным эффектом, поэтому препятствуют размножению разных обычно болезнетворных микроорганизмов, которых во Вьетнаме предостаточно.
— Вы специально это испытывали в условиях тропиков, где очень много микроорганизмов и у них высокий метаболизм?
— Да. И мы уже получили неплохие результаты. В частности, мне нравится такой: ткани, обработанные оксидом церия, меньше подвержены колонизации со стороны микроорганизмов и поэтому оказываются более долговечными в условиях тропического климата, более прочными и сохраняют это свойство в течение длительного времени. С полимерными материалами тоже все обстоит неплохо, потому что оксид церия придает им стабильность в условиях ультрафиолетового облучения, которое там достаточно сильное. Так что практические применения есть. У нас хороший партнер — Тропический центр, коллеги очень квалифицированы, нам много помогают.
Вообще про церий надо сказать, что это один из наиболее доступных по стоимости редкоземельных элементов. Еще одно связанное с этим элементом направление — это работы с материалами на основе фосфатов церия. Выяснилось, что эти материалы обладают очень неплохими УФ-защитными свойствами и могут представлять большой интерес для внедрения в составе солнцезащитной косметики. Они не причиняют никакого вреда, в отличие от традиционных ультрафиолетовых фильтров, например оксида цинка или оксида титана. Они безвредны и защищают не хуже.
— Вы сами уже пользуетесь?
— Мы пока разрабатываем композиции. Более того, мы создали специальное подразделение в институте, назвали его Центром косметической химии и материаловедения. Коллеги будут заниматься вопросами научного обеспечения косметической химии. Пока у нас это направление сосредоточено больше в фармацевтических компаниях, у производителей косметической продукции, но мне кажется, что тут нужно и фундаментальное сопровождение. Надеюсь, мы сможем его обеспечить.
Хотел бы упомянуть еще один интересный объект. Вы помните, что графен — это некая производная от графита. Графит — это фактически двумерные графеновые листы, сложенные в стопку. Я упоминал сегодня максены — они примерно подобным образом синтезируются, как графен, чуть более сложно. Но есть аналоги и среди соединений редкоземельных элементов — это слоистые гидроксиды редких земель. При некотором умении от них можно отщеплять квазидвумерные листочки и получать редкоземельные аналоги графена. С учетом особых свойств редкоземельных элементов такие материалы могут найти очень интересные применения: в качестве люминофоров, магнитных материалов и т.д. Это те применения, которыми славны редкие земли.
Вообще, поскольку был организован Центр мирового уровня, у нас возникает достаточно большое количество направлений, связанных с редкими землями. Я упомянул бы работы, связанные с созданием материалов на основе фторидов редкоземельных элементов. Это тоже прекрасные люминофоры, и коллеги сейчас занимаются очень интересной и довольно практичной задачей, связанной с разработкой методов оптической кодировки и оптического шифрования с использованием наночастиц фторидов редкоземельных элементов. Это защита от подделок и другие способы физической идентификации и аутентификации объектов изделий.
— Как это будет работать?
— Речь идет о том, что синтезированные специальным образом частицы наноразмерных фторидов редкоземельных элементов будут наноситься, например, на купюры, ценные бумаги.
— Недостаточно того, что сейчас происходит для идентификации купюр?
— Можно улучшить, усовершенствовать процесс. Всегда есть противостояние фальшивомонетчиков и тех, кто от них защищается. Здесь речь идет о том, что, пользуясь люминесцентными свойствами фторидов редкоземельных металлов, подбирая специальные ключи, которыми могут быть, например, источники света разной длины волны, можно дополнительно обеспечивать эту возможность кодировки и идентификации. Можно комбинировать несколько источников с разной длинной волны и видеть, например, разные изображения.
Наш центр связан не только с редкоземельными элементами, но и с редкими. В этой области у нас тоже ведутся интересные исследования. Эти работы связаны с созданием сенсоров и разных датчиков на основе в том числе редких и редкоземельных элементов. У нас в институте есть лаборатория, занимающаяся созданием печатных технологий получения сенсоров.
— Печатных — на 3D-принтере?
— Двумерных. Мы живем во время, когда окружающий мир меняется буквально на глазах, и вопросы, например, диагностики здоровья все чаще оказываются на стороне пациента. Появилось большое количество приложений, позволяющих следить за своим здоровьем при помощи тех или иных датчиков. Их надо изготавливать. Принципы могут быть разными. Наши коллеги пошли по пути создания как раз печатных технологий их изготовления. Например, датчики для анализа состава выдыхаемого воздуха. В идеале, насколько я понимаю, такой датчик мог бы выглядеть как очень миниатюрное устройство. Причем одноразовое, которое подключается при помощи электроники к смартфону и позволяет оценить наличие в выдыхаемом воздухе тех или иных веществ — маркеров опасных заболеваний за счет применения технологий искусственного интеллекта и наших химических, материаловедческих подходов.
— Например, астмы, диабета.
— Да. Такие работы проводились и раньше. Это так называемая концепция электронного носа, но сейчас происходит миниатюризация датчиков, поэтому, думаю, очень скоро мы это увидим в нашем обиходе.
— В карманном варианте?
— Да. Мне кажется, это было бы очень полезно, потому что людям нужно иметь современные способы слежения за своим здоровьем, помимо тех привычных способов, которым исполнилось уже 100–200 лет. Например, измерение давления. Нужно что-то более высокотехнологичное, позволяющее делать однозначные выводы о том, что происходит с вашим организмом.
— Да и измеритель давления, надо сказать, не очень удобная штука. Это достаточно громоздкий прибор, который нельзя положить в карман или подключить к мобильному телефону.
— Пульсоксиметры, которые вошли в наш обиход в ковид, базируются как раз на измерении физико-химических свойств некоторых соединений. Это пример такого современного датчика, который, наверное, сегодня имеется в каждой квартире.
— Каковы перспективы вашего института? Что бы вам хотелось еще сделать?
— По понятным геополитическим причинам нам хочется, чтобы то, что мы здесь делаем на уровне фундаментальной науки, быстрее транслировалось в прикладные области. Определенные примеры, движение в эту сторону есть. Что-то я уже назвал, но вот еще несколько примеров. Коллеги разработали очень интересную технологию очистки воды, связанную с одновременным использованием ультразвука и плазмы. Это очень перспективный способ, потому что он безреагентный — не нужно ничего добавлять в воду. Просто нужно ее обработать этим способом, и тогда удастся избавиться от всего, что в ней есть ненужного, вредного. Например, за один проход уничтожаются самые болезнетворные микроорганизмы. Еще есть проблема стойких органических загрязнений. Эта технология тоже позволяет уничтожать такие вещества за один проход. И это происходит как раз за счет генерации свободных радикалов, активных форм кислорода — то, что мы профессионально исследуем.
Еще одним примером того, куда надо двигаться, служат работы по выделению и разделению уже многократно упомянутых редкоземельных элементов. Здесь нами предлагаются совершенно новые технологические решения, связанные с использованием двойных эвтектических растворителей, ионных жидкостей, ионогелей. И это уже дошло до высокой степени технологической готовности — шестого уровня готовности, близкого к внедрению. Я думаю, надо как минимум пытаться добиться того, чтобы лабораторные разработки не оставались только в статьях, но и доходили до реализации.
— Как это делать? Ведь это огромная проблема.
— Огромная. Готового рецепта нет, каждый директор делает это по-своему.
— Как вы это делаете?
— Мне кажется, для этого надо создавать инфраструктуру. Одним из элементов такой инфраструктуры у нас стал Центр масштабирования технологий, связанных с разделением неорганических и органических соединений. Это для нас флагманский проект — надеюсь, он будет успешно реализован. К нему проявили интерес инвесторы, которые в него вкладываются. Государство тоже оказывает поддержку. Потренируемся на этом проекте, надеюсь, будет и продолжение.
— Есть ли у вас научная мечта?
— У директора одна научная мечта — найти свободное время, чтобы заняться наукой.
— Допустим, вы его нашли. Чем бы вы занялись?
— Для меня наибольшее удовольствие — работа с аспирантами, потому что у них обычно незашоренный взгляд, уйма интереса, и это взаимодействие позволяет мне тоже задуматься, что можно было бы еще сделать. На отсутствие идей мы не жалуемся — скорее возможностей бывает недостаточно, чтобы успеть все эти идеи реализовать.
Интервью подготовлено при поддержке Российской академии наук