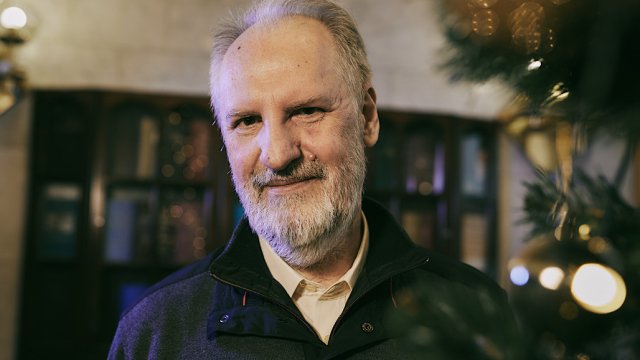За последнее десятилетие онкохирургия шагнула далеко вперед. Новые технологии, в том числе с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, интеграция с другими методами лечения и более глубокое понимание биологии опухолей позволили значительно повысить эффективность хирургического вмешательства. Об этом говорит практика специалистов Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения РФ, где ежедневно проводятся сложнейшие онкохирургические операции с применением самых передовых технологий. Об истории развития, актуальных исследованиях и перспективах одной из самых сложных хирургических дисциплин мы поговорили с заместителем генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России по хирургии, профессором, доктором медицинских наук Андреем Борисовичем Рябовым.
Андрей Борисович Рябов
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Андрей Борисович Рябов — доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения РФ по хирургии. Хирург-онколог, владеющий всеми типами и объемами операции у детей и взрослых больных с новообразованиями торакоабдоминальной и забрюшинной локализации. Много лет возглавляет отдел торакоабдоминальной онкохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала ФБГУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Он инициатор междисциплинарного сотрудничества в области хирургии. Активно занимается издательской и благотворительной деятельностью. Курирует в свободное время маленьких онкопациентов Морозовской больницы.
— Андрей Борисович, каковы сегодня основные тенденции в развитии онкохирургии в России и в мире?
— Развитие онкохирургии в России не имеет особых отличий от общемировой практики. Нас с коллегами не разделяют границы. Это общее научно-практическое пространство, в котором мы подпитываемся друг у друга знаниями, идеями и обмениваемся достижениями. И поэтому я бы скорее рассказал об онкохирургии в целом: о том, как она становилась на ноги и какой стала сегодня.
В развитии большой полостной хирургии можно выделить несколько основных опорных точек, от которых дисциплина оттолкнулась и стала динамично развиваться. С чего все начиналось? Я думаю, что создание эфирного наркоза и его применение открыли возможность выполнения обширных операций. В то время, когда Рудольф Клаузиус (1850) занимался развитием идей Сади Карно и формулировал второй закон термодинамики, два замечательных джентльмена — анестезиолог Уильям Мортон и хирург Джон Уоррен — выполнили 16 октября 1846 г. в Массачусетской многопрофильной больнице города Бостона (США) первую операцию сосудистой опухоли шеи под эфирным наркозом, открыв тем самым возможность для полостной хирургии в скором будущем. И сегодня этот день, когда была выполнена первая операция под наркозом, отмечается как Всемирный день анестезиолога. В то время было очень много скептиков. Никто не верил, что операция возможна при полном обезболивании пациента. И когда хирург провел операцию, а пациент не отреагировал на оперативное вмешательство, Джон Уоррен обратился к аудитории и сказал: «Господа, это не обман». Про Уильяма Мортона говорили, что он вошел в операционную никому не известным дантистом, а вышел из нее всемирно прославленным ученым. Все большие операции, которые мы выполняем сегодня (безусловно, при другом технологическом оснащении и ином характере вмешательств), были осуществлены в конце XIX и начале XX в.
Следующей вехой стали работы Джозефа Листера по антисептике, применению карболовой кислоты в хирургии и открытие Александром Флемингом пенициллина в 1920-х гг. Мы стали справляться с инфекционными осложнениями и улучшили наши результаты лечения. Только в конце XIX в. и начале XX в. началась трансформация врача-хирурга от гениального ремесленника и рукодела к врачу широких компетенций.
А потом присоединились технологии, и качество нашей хирургии значительно выросло. Ученые начали исследовать биологические особенности опухолей, а хирурги были воодушевлены тем, что теперь могли выполнять большие операции, удалять объемные опухоли, резецировать много органов. И наш великий соотечественник, академик Александр Иванович Савицкий, один из основоположников онкологии в СССР, главный онколог Министерства здравоохранения СССР, высказал такую мысль: «Маленькая опухоль — большая операция». То есть онкохирурги стремились выполнить операцию максимально в пределах неизмененных тканей, понимая, что опухолевое распространение может быть значимо бо́льшим, чем мы это определяем визуальными методами. Принцип радикализма был поставлен во главу угла.
К 1990-м гг. мы подошли с тезисом о расширенно-комбинированных операциях. К тому моменту мы действительно научились делать обширные резекции, но уже начали думать об одномоментных реконструкциях, потому что многие операции были или ампутационные, или отсроченные — когда сначала удалялась опухоль, а потом через некоторое время, если не было прогрессирования болезни, выполнялась реконструкция. Хирурги научились делать реконструкцию одномоментно после выполнения резекционного этапа. Это, конечно, было очень важное и революционное решение для развития онкохирургии.
То есть мы видим этапы развития: эфирный наркоз, открытие антисептики и пенициллина, внедрение новых технологий, обширные операции и потом стремление восстановить утраченную функцию за счет одномоментной реконструкции. Важно отметить, что в начале 1990-х гг. появились минимально инвазивные технологии в хирургии: выполнение операций через небольшие разрезы. Прогресс в диагностических технологиях и реализация скрининговых программ позволили обнаруживать рак на ранних стадиях, и стало больше пациентов с маленькими опухолями. В начале 1990-х гг. были выполнены первые малоинвазивные операции по поводу рака легкого, рака желудка, толстой кишки, опухолей почек и пищевода. Таким образом, мы видим, что произошел качественный прорыв в перестройке хирургической технологии в целом.
С другой стороны, открытия в научных лабораториях позволили нам лучше понимать биологию опухоли. У нас накопилась огромная база данных о результатах нашего лечения. Пришло осознание, что в рамках одной нозологии (болезни) есть более доброкачественные опухоли, а есть и более злокачественные. Такие опухоли имеют разные молекулярно-генетические характеристики. Это означает, что программы терапии могут быть разными и хирургические вмешательства также могут отличаться друг от друга по своему объему. То есть наступил следующий важный этап, когда мы стали подходить к лечению дифференцированно с точки зрения биологических особенностей опухоли и хирургия стала более персонализированной. Мы поняли, что операции могут быть разными даже при одном злокачественном заболевании с учетом различных прогностических свойств опухоли.
Но это еще не все, что приходится сегодня учитывать, когда мы разрабатываем программу лечения и хирургическое вмешательство для пациента. Гиппократовский принцип «Лечить не болезнь, а больного» приобретает новое звучание. Мы учитываем также возраст и сопутствующие заболевания, изучаем особенности иммунной системы организма пациента. Мы видим, что не все пациенты могут перенести радикальные оперативные вмешательства. И причина неудач в лечении часто связана не с онкологией, а именно с сопутствующими заболеваниями. К настоящему моменту наша хирургия стала еще более дифференцированной, потому что мы лучше стали разбираться в сути процессов, которые происходят в организме наших больных. К тому же у нас появилось больше технологий для подготовки пациентов и выполнения операций щадящими способами.
Сегодня онкохирурги думают не только об онкологической задаче, но и о качестве жизни людей: как будет жить пациент после наших операций? Как нужно изменить хирургию для того, чтобы пациент был социально реабилитирован, чтобы мы обеспечили максимально косметический эффект наших операций?
Следующий вопрос касается профилактических операций, когда мы заранее можем прогнозировать, что при наличии таких-то мутаций вероятность развития опухоли в еще не измененном органе составляет порядка 100%. Это уже профилактическая онкохирургия, которая активно обсуждается в случае рака молочной железы, наследственных форм рака желудка и т.д. Вспомним известный пример актрисы Анджелины Джоли. Это совершенно другой подход, это новая философия направления.
Я постарался рассказать вам не только о развитии онкохирургии, но и об эволюции стратегии лечения онкологических пациентов. И если все обобщить и сформулировать современную стратегию моей дисциплины, то она состоит в том, что мы сегодня стремимся выполнять максимально органосохранные, высокофункциональные операции, но при соблюдении необходимого онкологического радикализма. И вот этот «необходимый онкологический радикализм» с накоплением опыта может меняться: где-то мы расширяем показания для хирургии, а где-то, наоборот, их сокращаем. То есть наша специальность очень гибкая и адаптивная к новому знанию. Поэтому сегодня образ хирурга, как мне кажется, очень сильно изменился. Мы перестали быть теми хирургами, какими их обычно изображают, — несколько грубыми людьми, которые, работая с тканями, топорно вырезают какие-то большие опухоли. Сегодня мы, безусловно, — исследователи и ученые. Мы внимательно следим за всеми тенденциями, которые есть в научной сфере, для того чтобы видоизменять наши подходы и менять нашу специальность, в том числе подстраиваясь под актуальные задачи.
— То есть получается комплексный подход к лечению пациента?
— Совершенно верно.
— Тогда давайте поговорим о цифровых технологиях, которые стремительно входят в нашу жизнь. Какие из них находят применение в онкохирургии?
— В первую очередь, это роботизированные системы и системы для минимально инвазивной хирургии, в которых используются цифровые технологии. Так, со временем, я уверен, мы, как водители, будем использовать для проведения операций навигационные инструменты, которые будут прокладывать оптимальный порядок действий, осуществляемых хирургом. Сегодня при роботизированной хирургии аппарат может посчитать лишние движения, подсказать, какая рука работает больше — правая или левая, сообщить, как сделать операцию более быстро, качественно и максимально эффективно. У нас появляется также новая навигационная система, позволяющая во время операции лучше визуализировать жизненно важные органы с помощью наложения диагностических картинок на операционные раны. Такие модели сегодня развиваются, мы видим их на выставках и какие-то из них уже внедряются в нашу практику.
Если говорить о цифровых технологиях и об искусственном интеллекте, то здесь нас интересует вопрос принятия решения. Например, приходит к нам пациент, у которого есть опухоль с определенной стадией процесса, мутациями, и есть сопутствующая патология. И прогноз в данном случае может быть очень разным. Большое значение имеет возраст больного. А у нас огромный арсенал возможностей, и некоторые методы лечения зачастую конкурируют друг с другом, имея свои преимущества и недостатки. Мало того: мы можем сочетать эти методы для повышения эффективности лечения. Поэтому бывает крайне сложно учесть все факторы для принятия решения. Возникает вопрос: что будет оптимально для данного конкретного пациента? Ничего не делать, просто наблюдать, и так он проживет лучше с учетом его особенностей? Или сразу выполнить ему операцию? Или не делать операцию, а провести лекарственное лечение с химиотерапией? Или сочетать эти методы? А какова их последовательность — вначале химиотерапия, а потом операция, или наоборот? То есть видите, сколько может быть вариантов. И, конечно, человеческому рассудку бывает крайне сложно определиться с лечением при наличии такого количества вводных данных. Поэтому мы работаем всегда мультидисциплинарно и проводим большое количество разных консилиумов, чтобы попытаться минимизировать ошибки и, слушая друг друга, выработать план лечения. В данном случае нам могут пригодиться математические алгоритмы: они способны просчитать все риски и определить правильную траекторию лечения для конкретного пациента. Сегодня мы стараемся сделать наш выбор максимально объективным. И, разговаривая с пациентом, уже начинаем рассуждать с точки зрения математических вероятностей.
— Но для цифровых алгоритмов принятия решений нужна большая база данных?
— Совершенно верно. И эта проблема очень актуальна, она решается во всем мире и в нашей стране в том числе. Массивы данных должны накапливаться. И чем более корректно эта информация будет введена и сохранена, чем больше ее будет, тем легче будет идти машинное обучение и мы в итоге быстрее получим хорошего помощника. Сейчас в мире идет борьба за информацию и создание больших баз данных. Первые успехи мы видим в диагностике, когда пытаются с помощью машин научиться отсеивать большие объемы ненужной информации, чтобы предельно актуализировать работу специалистов в процессе постановки диагноза.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
— Но тогда получается, что если увеличивается количество инструментов и технологий, применяемых в медицине, то и сами хирурги обязаны постоянно повышать уровень своего образования. Как вы считаете, наши специалисты в целом идут в ногу со временем?
— Вы затронули очень хорошую тему. В мире все развивается, идет технологическое переоснащение, меняется мировоззрение, о чем я говорил выше. И если вы не становитесь участником этого процесса, то остаетесь на обочине, постепенно теряете квалификацию и уже не можете работать в своей профессии. Поэтому у нас нет выбора. Мы, безусловно, стараемся следить за современными тенденциями, и как специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии мы должны быть проводниками новых веяний и предоставлять лучшую практику в плане применения самых современных технологий, чтобы обучать других специалистов в нашей стране. Поэтому мы стараемся быть на передовых позициях и уделяем достаточно времени тому, чтобы осваивать все самое современное, что появляется в нашем профессиональном поле.
— А у вас как специалиста какое направление в онкохирургии из тех, что сейчас активно развиваются, вызывает наибольший интерес?
— Судьба вывела меня на торакоабдоминальную онкохирургию — это самый сложный раздел в онкологии, что бы ни говорили представители других дисциплин. Потому что те задачи, которые мы решаем, очень сложны и связаны с большим риском для наших пациентов и для репутации хирурга, который занимается выполнением больших расширенных операций при опухолях пищевода, легких, средостения, трахеи, пищеводно-желудочного перехода, забрюшинных опухолях. Повторюсь, это хирургия крайне высокого риска, поэтому она мне очень интересна и позволяет масштабно смотреть на проблемы всей онкохирургии, потому что ее основу составляет именно моя дисциплина.
Меня интересует также проблема детской онкохирургии. Я уделяю ей очень много времени и выступаю экспертом в нашей стране по данному направлению. Как ученого-практика меня интересует изучение изменений задач хирургии в эру таргетной и иммунной терапии.
— И, соответственно, принцип максимального сохранения органов, о котором вы говорили, напрямую относится к торакоабдоминальной хирургии?
— Это вообще современная стратегия для любой области хирургии — выполнить максимально органосохранную функциональную операцию. И что всегда приходится решать хирургу? С одной стороны, это радикализм вмешательства и насколько он должен быть реализован. С другой — это потеря качества жизни пациента. Ведь можно выполнить очень обширную операцию, удалить большое количество органов, но это может сделать человека инвалидом, он будет очень сильно страдать и понимать, что такая жизнь, вероятно, ему может быть не нужна. Поэтому мы постоянно находимся в процессе такого выбора. Нам нужен именно достаточный радикализм при максимальной органосохранности и функциональности наших оперативных вмешательств.
— И насколько полно такая стратегия лечения пациентов реализуется сегодня в наших медицинских учреждениях?
— Основа максимальной органосохранной хирургии лежит в плоскости ранней диагностики. Чем лучше мы диагностируем опухоль на ранних стадиях, тем больше вероятность, что нам удастся выполнить органосохранное хирургическое вмешательство. Например, рак легкого. Еще 20 лет назад основной операцией при раке легкого была пневмонэктомия, когда с одной стороны удалялось все легкое. И такие операции выполнялись часто, сегодня — крайне редко, иногда две-три за месяц. В основном мы выполняем органосохранные операции, когда удаляем долю или сегмент. То есть мы стали чаще диагностировать опухоли на более на ранних стадиях.
Следующий момент. Как я уже сказал, с 1990-х гг. мы стали применять минимально инвазивные методы выполнения этих операций, то есть через маленькие разрезы. Это повышает качество жизни наших пациентов, особенно в ранний послеоперационный период. И сегодня 80–90% операций по поводу рака легкого выполняются малоинвазивно, то есть через маленькие проколы. Это колоссальный прогресс, и пациент меньше испытывает болевой синдром, быстрее возвращается к обычной жизни, лучше реабилитируется.
Другой пример — ранние формы рака желудка и пищевода, когда при прорастании опухоли только слизистого и в начальную часть подслизистого слоя можно выполнить в радикальном объеме резекцию за счет технологий гибкой эндоскопии. При правильной реализации этого метода безрецидивная выживаемость таких пациентов достигает 90%. Сохраняется орган, опухоль удалена, пациент чувствует себя очень хорошо.
Для примера возьмем еще ампутационный этап в онкоортопедии. Раньше при злокачественных опухолях удаляли руки, ноги, и пациент чувствовал себя инвалидом. А сегодня, во-первых, при многих состояниях стали более ограниченные резекции, во-вторых, у нас появились всевозможные эндопротезы. И сегодня более чем у 90% пациентов выполняется одномоментное эндопротезирование после удаления всевозможных злокачественных опухолей скелета, в частности конечностей. То есть технологии и понимание биологии опухоли позволяют нам реабилитировать таких пациентов даже во время первичной операции сразу после удаления опухоли.
И, безусловно, нельзя обделить вниманием развитие трансплантологических технологий при лечении злокачественных опухолей. Раньше это считалось вообще невозможным, потому что существует иммуносупрессия — угнетение иммунитета — как фактор прогрессирования заболевания. И мы сегодня выполняем трансплантацию почек и печени при злокачественных новообразованиях. Это вообще революционная история, и уже определены четкие показания, когда это можно делать. Поэтому мы видим, что можем заменять целые органы, для того чтобы пациенты себя более качественно чувствовали.
Технологии в онкохирургии развиваются, показания к их применению оттачиваются. И даже сложно себе представить, что будет еще лет через 50. Мы можем, конечно, фантазировать, но все равно ошибемся.
— Расскажите, пожалуйста, про наиболее интересные и сложные операции из вашей практики, которые удалось провести в последнее время в НМИЦ радиологии.
— Есть, конечно, эмоционально непростые операции, которые связаны с лечением сложных пациентов, когда мы понимаем интраоперационно, что возможны неблагоприятные исходы. И когда в результате сконцентрированного в моменте времени нашего труда пациент выживает, мы, конечно испытываем облегчение и радость от того, что команда сработала профессионально, потому что исход определен не только умением хирурга и ассистента, это еще и большая работа анестезиолога и реаниматолога. У нас месяц назад была серия операций по поводу распространенных опухолевых тромбов, которую мы выполнили вместе с генеральным директором нашего центра Андреем Дмитриевичем Каприным. Операции были сложные — с пластикой в зоне кавальных ворот печени. Мы проводим интересные реконструкции после удаления опухолей с поражением бифуркации трахеи, требующие правильного анестезиологического ведения операции, обеспечения газообмена интраоперационно и создания неокарин во время операции. Мы также проводим сосудистые пластики, когда протезируем крупные сосуды при поражении их опухолью. Такие операции в нашем центре нередки.
Бывает и так, что даже не столь агрессивная хирургия, а органосохранная операция, выполненная ювелирно через небольшие доступы, доставляет большое удовлетворение, потому что ты понимаешь, что сделал ее красиво и анатомично.
И, конечно, онкохирургия у детей. Это каждый раз большое удовлетворение, если все удалось, потому что здесь несколько иной горизонт прогноза: мы должны обеспечить ребенку правильную хирургию и качество жизни на всю оставшуюся жизнь. Здесь другая ответственность и совершенно другая цена ошибки по сравнению даже с хирургией у взрослых.
Поэтому, как видите, у нас такая специальность, которая приносит чувство огромного удовлетворения. Но бывают и серьезные разочарования, когда у нас случаются неудачи, в том числе и из-за наших недочетов. Это особенности профессии. Поэтому у нас есть и взлеты, и падения. Но самое главное — чтобы общая тенденция была положительной. Опыт показывает, что в нашей сложной работе мы чаще оказываемся победителями.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.