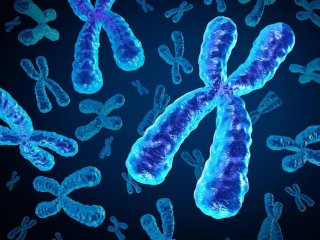Эта беседа состоялась задолго до распространения коронавируса, самоизоляции и закрытия границ между странами. Но главные вопросы, которые затронуты в интервью с доктором психологических наук Тимофеем Нестиком, не только не потеряли актуальности, а напротив — стали еще более злободневными. Кто мы? По какому пути мы движемся? Какова наша национальная идея? Каким мы видим наше будущее? Наш гость вместе с коллегами провел немало исследований, посвященных этим темам. О результатах и не только — разговор с Тимофеем Нестиком.
Тимофей Нестик – профессор РАН, доктор психологических наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН, ведущий научный сотрудник факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и Школы антропологии будущего ВШСН РАНХиГС.
— Что такое "коллективный образ будущего"?
— В отличие от индивидуального образа будущего, коллективный образ — это разделяемые обществом цели, планы, сценарии их достижения, ожидания. Важной частью коллективного образа будущего являются коллективные страхи, надежды, а также коллективные мечты, которые не предполагают свершения событий в ближайшей перспективе. Не будем забывать и об идеалах, которые никогда не будут реализованы полностью, при этом сильно влияют на то, чего мы ждем от будущего.
Некоторые эксперты даже говорят о создании своего рода лимбической экономики, по аналогии с лимбической системой нашего мозга, отвечающей за эмоции. Ведь с социологической точки зрения, коллективный образ будущего — это некий рынок страхов и надежд. И в него сейчас инвестируются огромные суммы денег, как со стороны крупных технологических компаний, так и со стороны правительств.
— От чего зависят характеристики коллективного образа?
— Прежде всего, от особенностей группы. Одно дело, когда речь идет об исследовательской группе или команде топ-менеджеров, и совсем другое дело, когда мы говорим об обществе в целом, о широких социальных категориях. Но, тем не менее, есть некоторые общие закономерности.
Наше отношение к будущему определяется силой того, что психологи называют «групповой идентичностью». То есть категорией, которая показывает, насколько значима для нас принадлежность к той или иной группе, и насколько позитивно мы ее оцениваем. Ведь некоторые люди стыдятся своей принадлежности к конкретной группе. С другой стороны, влияние оказывает и эмоциональное состояние группы в целом. И здесь как раз динамика коллективной тревоги и коллективных страхов оказывает сильное влияние.
В одном из наших исследований мы показали, что чаще всего в российских организациях о будущем говорят в контексте неблагоприятных событий. Как правило, больше половины разговоров о будущем окрашены в негативные тона и связаны именно с тревогой.
Кроме того, на формирование образа будущего влияет лидер группы. Ряд исследований показывает, что вера лидера в достижимость будущего, его способность приблизить временной горизонт к настоящему своих последователей оказывает сильное влияние, на то, каким мы видим это будущее.
Однако здесь мы можем попасть в ловушку сверхоптимизма руководителя и его команды. Уверенность в выбранной траектории повышается, и члены группы невольно ослепляют друг друга. Команда становится менее чувствительной к сигналам перемен. Члены группы могут упустить некоторые возможности, о которых потом будут жалеть.
Чтобы этого избежать, необходимо регулярно обсуждать изменения, стараясь посмотреть на происходящее и его последствия с разных точек зрения, допуская разные сценарии. Мы это называем проспективной рефлексией. Группа людей, команда, сообщество совместно обсуждают различные сценарии развития событий, продумывают не только план, но и риски. И в данном случае роль лидера чрезвычайно важна. Он становится посредником, который помогает команде увидеть разные варианты достижения целей и вовлечь в обсуждение все заинтересованные стороны. При этом перспектива расширяется как в прошлое, так и в будущее.
Интересный факт — когда человек не может влиять на настоящее, и его жизнь зависит от воли судьбы, то он обесценивает и будущее, и прошлое. Наш временной горизонт становится ограниченным. При этом мы перестаем выхватывать положительные примеры из прошлого, которые могут стать инструментом для достижения нашей цели. Человек обращается к «золотому» времени прошлого, жалеет о настоящем и сетует на бесперспективность будущего.
Когда у нас появляется мечта, приподнимающая нашу самооценку, ситуация переворачивается. Мы всматриваемся в коллективное прошлое с большим интересом, ищем в нем примеры, уроки, которые помогут нам двигаться вперед, что, в свою очередь, влияет на отношение к будущему. Иными словами, если мы перестаем мечтать о будущем, ставить амбициозные цели, мы утрачиваем и собственное прошлое.
Кстати сказать, за воображение о будущем, личные сценарии развития событий отвечают те же центры в нашем мозге, которые отвечают за автобиографическую память. Скорее всего, именно поэтому мы обращаемся к собственному опыту, а порой и к опыту наших друзей, близких, когда пытаемся спрогнозировать тот или иной исход.
— К каким результатам вы пришли в рамках недавнего исследования по гранту РНФ?
— Мы работали над так называемой экономикой страха, то есть с тем, что сегодня модно называть глобальными вызовами. У всех на слуху проблема изменения климата. Нам демонстрируют устрашающие картины будущего. И в контексте воздействия климатических или технологических угроз на человека, наши города, планету, этот дискурс тревоги нельзя недооценивать. Воздействие такого рода страхов, а иногда сознательно распространяемой тревоги, оказывает на нас сильное влияние, особенно на нашу способность вырабатывать ответы и решения.
Нас, в частности, интересует то, каким образом поддержать веру в будущее, оптимизм, жизнеспособность в условиях глобальных рисков. Мы уже провели ряд экспериментальных и опросных исследований. Нам удалось выявить ряд общих механизмов конструирования коллективного образа будущего и его связи с отношением человека к собственной смерти. Прежде всего, это связано с фаталистическими установками.
Дело в том, что картины умирающих животных или погибших экосистем в новостях об изменении климата напоминают людям о конечности их собственного существования. Конечно, напоминать можно по-разному. Если мы пытаемся вызвать чувство сострадания, сопереживания, то есть конструктивный страх, то повышается готовность к действию, готовность к предотвращению рисков, желание участвовать в коллективных инициативах, вера в то, что совместными усилиями через сотрудничество люди смогут выработать сложные решения.
Если же мы провоцируем деструктивный страх: страх распада, разложения тела, страх забвения, то усиливаем веру в приверженность традиционным нормам и ценностям, необходимость жесткого контроля над поведением граждан.
Наши исследования показали, что страх людей перед всевозможными катастрофами никак не усиливает готовность к совместным действиям для предотвращения угрозы. В нашем психофизиологическом эксперименте участникам предлагали прочитать различные новостные тексты о глобальных рисках. И эти тексты, взятые из социальных медиа, точно не усиливают готовность что-то делать сообща. Напротив, усиливается готовность защищать себя и своих близких.
Один из ключевых выводов наших исследований таков — когда мы информируем население о глобальных рисках и их последствиях, важно поддерживать веру человека в то, что он может на что-то влиять. Информация должна содержать определенную программу действий, и обращаться не к страху, а к самооценке человека. Необходимо предлагать прагматическую последовательность шагов, которые повышают уверенность человека в том, что, например, выбрасывая мусор в контейнеры раздельного сбора, он тем самым становится лучше, то есть повышает собственную самооценку.
Кстати, недавно мы провели репрезентативный опрос среди россиян совместно с коллегами-социологами из исследовательской группы «ЦИРКОН». Он был посвящен отношению населения к глобальным угрозам. Оказалось, что больше всего ими озабочены не жители мегаполисов, а те, кто живет в поселках и городах с численностью населения менее 50 тысяч.
— С чем вы это связываете?
— На мой взгляд, это связано с двумя причинами. С одной стороны, у людей, живущих в небольших городах, ярче выражена локальная идентичность, то есть чувство принадлежности к малой родине. Ряд других исследований доказывает, что готовность отождествлять себя с человечеством и тревога по поводу общей судьбы, как ни странно, напрямую связана с готовностью заботиться о собственном доме или городе.
С другой стороны, именно у этой категории россиян наиболее низкое субъективное благополучие, то есть низкий уровень доходов и высокое чувство социальной несправедливости. Мы наблюдаем эту закономерность на всей выборке: тревога по поводу глобальных угроз связана с уровнем доверия к социальным институтам. Наш опрос показал, что только 26% россиян уверены, что в случае массового бедствия региональные и федеральные власти окажут помощь всем нуждающимся.
Также заметно, что озабоченность глобальными рисками сегодня все больше связана с экологическими угрозами. Несколько лет назад, когда мы опрашивали молодежь о страхах перед глобальными вызовами, то на первом месте, был, например, страх перед ядерной войной. Сегодня этот страх переместился примерно на 7 место. В пятерке главных современных страхов, связанных с ситуацией в мире, — загрязнение окружающей среды и техногенные катастрофы, разрушающие земную экосистему.
Тревога по поводу экологической угрозы сильно зависит от чувства социальной несправедливости. Мы видим прямую связь между страхом перед загрязнением окружающей среды и неудовлетворенностью наших респондентов своим экономическим благополучием или уровнем социального неравенства.
— После многочисленных исследований, каким вы видите коллективный образ будущего россиян?
— Если говорить о горизонте планирования в нашей стране, то он очень короткий. Это показывают и наши исследования, и исследования наших коллег — экономистов и социологов. Речь идет о коротком инвестиционном цикле: длинные деньги очень дорогие.
Свою жизнь подавляющее большинство планирует не дальше, чем на год. Но если говорить об образе будущего, то можно заметить некоторые закономерности. Когда мы задумываемся о долгосрочном будущем, мы склонные оценивать его оптимистически. И вообще в сверхоптимизме как в когнитивном искажении есть эволюционный смысл.
Если взять исследования, как наших специалистов, так и коллег из Фонда общественного мнения, ВЦИОМа или Левада-центра, то россияне, как правило, оценивают будущее России через 20-25 лет позитивно. Это классическая ситуация, когда нам очень сложно повлиять на настоящее — мы пытаемся поддержать свою самооценку здесь и сейчас, открывая для себя воображаемые перспективы в отдаленном будущем. Однако существует и другой прием в противовес диспозиционному оптимизму — защитный пессимизм.
— Вторая закономерность?
— Если угодно. Иногда они сочетаются. Например, долгосрочное будущее оценивается позитивно, при этом ближайшее будущее — крайне негативно.
— О каком промежутке времени идет речь?
— Как правило, от года до пяти лет. По крайней мере, это те временные рамки, которые мы задавали в наших исследованиях. Интересно то, что люди, которые занижают свои ожидания относительно ближайшего будущего, могут быть не менее успешными в жизни. Они словно видят некую многовариантность будущего и чаще допускают равную вероятность развития различных сценариев как позитивных, так и негативных. В целом они склонны более негативно оценивать ближайшее будущее и более позитивно — долгосрочное, тем самым защищая себя от разочарования. И такая стратегия, как мне кажется, достаточно конструктивна.
— Проблеме национальной идентичности и национальной идее уделяется большое внимание. Одна из сессий последнего Общего собрания РАН была посвящена именно этим понятиям. Что вы можете рассказать о национальной идентичности и идее русского народа?
— О том, что России нужна национальная идея говорят уже на протяжении 20 лет. И, конечно, выработать ее можно, декларировав в определенных исторических документах. Но сложность здесь не только в том, что элита не всегда готова смотреть далеко вперед и договариваться о том, каким будет коллективный образ будущего. А в большей степени в том, что этот образ, спущенный сверху, может сильно противоречить ожиданиям самих россиян. Это связано и с высоким разрывом между богатыми и бедными, со стремлением общества к социальной справедливости.
И это не только проблема России. Все дело в том, что в обществе как правило нет одного единого образа будущего. В действительности речь идет о конкурирующих образах и сценариях, которые крайне сложно согласовать. Чтобы это произошло, нужен определенный уровень социального доверия: доверия к другим социальным группам, доверия к социальным институтам и т.д. Я бы не стал с уверенностью говорить о том, какой образ будущего нам сейчас необходим. Могу лишь сказать, что каким бы он ни был, он совершенно точно будет защищать нашу самооценку.
Вспомните картины будущего писателей или художников-фантастов в 60-70-е гг. ХХ века. Они все наполнены не только технологическим оптимизмом, но и оптимизмом социальным. Еще 20 лет назад, согласно их идеям, мы должны были построить города на Луне. Но этого не произошло, во многом благодаря тому, что общество перестало верить в эффективность социальной системы: эффективность деятельности правительства, социальных институтов.
Но всё-таки, я верю в процессы, которые формируются снизу. Когда группа активистов или экспертов представляет интересы разных, а лучше всех заинтересованных сторон, вырабатывает образ будущего для каждого региона, каждой профессии, отрасли и т.д. Если в ходе такого рода обсуждений мы станем больше доверять друг другу, то будущее станет для нас более отчетливым, и при этом, мы будем толерантны к неопределенности.
Главный вывод исследования состоит в том, что когда мы вместе обсуждаем долгосрочное будущее, то важнее для нас не сам результат в виде каких-то картинок, а общий язык, который мы выработаем, чтобы быстрее сверять ориентиры. Это необходимо, чтобы эффективнее договариваться о дальнейших шагах и планах, если что-то пойдет не так. И это доверие друг к другу — так называемая общность ментальных моделей — настоящий социальный капитал. Он позволяет людям быть более жизнеспособными в условиях быстрых изменений.
Три года назад мы совместно с Агентством стратегических инициатив провели эксперимент — измерили отношение к будущему среди участников серии мозговых штурмов, посвященных перспективам развития российских отраслей и регионов. По сравнению с контрольной группой, не участвовавшей в этой работе, их образ будущего не стал отчетливее. Чем менее предсказуемым им казалось будущее России, тем более оптимистично они смотрели вперед. И произошло это за счет роста доверия друг к другу: как бы ни сложились обстоятельства, мы вместе найдем решение.
— Из-за отсутствия доверия к институтам в нашем обществе нет веры в светлое будущее и национальной идеи? То есть эти понятия настолько связаны?
— Безусловно. Но дело не только в доверии. Дело в том, что в России достаточно слабый социальный капитал.
Исследования наших коллег из Института социологии РАН показывают, что число россиян, ощущающих одиночество, только растет. Это согласуется с результатами наших исследований: чем меньше социальных категорий, к которым человек может себя отнести, тем сложнее ему ответить на вопрос — кто я такой, и тем труднее ему заглядывать в будущее.
Интересно и то, что мы, а также наши американские коллеги, изучавшие пользователей социальных сетей, определили: чем более разнообразной оказывается сеть контактов человека (чем больше в нее входит людей из разных профессиональных, территориальных, возрастных и иных групп), тем чаще он задумывается о будущем, и тем больше его беспокоит будущее коллективное.
Именно поэтому так важна эмпатия, которая определяет наши общие надежды, общие чувства.
Но, к сожалению, людей скорее объединяют общие страхи, и в этом я вижу коварство сложившегося положения. Поскольку объединить людей на непродолжительное время легче с помощью тревоги, образа врага и угроз.
— Всё то, что сейчас транслируется в СМИ?
— Именно. Заметьте, что консервативная революция, которая происходит на наших глазах в США, в Европе и, в какой-то степени, у нас в стране, во многом связана с тревогой людей по поводу будущего. Человечество нуждается в политиках, которые могут пообещать им успешное будущее, какую-то стабильность и определенность. Но сейчас это сделать не так просто, поскольку растет запрос и на социальную справедливость. Последние исследования, проведенные в развитых странах, показывают, что всё меньше людей верят в то, что их дети будут жить лучше, чем они.
— Какие закономерности вы обнаружили среди настроений молодого поколения? Каким они видят образ будущего своей страны?
— В целом для поколения Z характерно считать себя людьми мира, но это не всегда связано со слабой гражданской идентичностью. Поколение Z в большей степени озабочено экологическими угрозами. Но по уровню тревожности они далеко не лидеры. Самое тревожное поколение — люди пенсионного возраста. Это так называемые бэби-бумеры, которых тревожит практически все.
И именно эта возрастная группа в меньшей степени может на что-то повлиять. А поколение Z, напротив, отличается высокой тревогой по поводу будущего, а также некоторым романтизмом. В целом для россиян характерно представление о том, что сильный руководитель может изменить жизнь к лучшему. Как это ни парадоксально, представители поколения Z при всем запросе на социальную справедливость верят в то, что справиться с глобальными рисками могут политики, готовые принимать рациональные решения.
При этом, есть еще одна сторона, которую мы отмечаем среди молодежи — сочетание социального пессимизма и технологического оптимизма. Россия, по сравнению, например, с европейскими странами, значительно более технооптимистична. Мы склонны верить, что развитие технологий изменит ситуацию к лучшему и решит множество социальных проблем.
Согласно результатам наших исследований, голосовые помощники кажутся молодому населению гораздо более понятными и безопасными, чем, скажем, самоуправляемые такси или постгеномные технологии. Важно также и то, доверяем ли мы производителям технологий, доверяем ли мы другим пользователям интернет-услуг. Оказывается, что именно социальное доверие вносит наибольший вклад в готовность доверять разные задачи искусственному интеллекту.
— В каком направлении сегодня движутся психологическая наука и психологическая практика? Есть ли у них точки пересечения?
— Они не могут не пересекаться. Хотя в России особенно остро чувствуется противоречие между опытом и фокусом интересов психологов-практиков и психологов-исследователей. Иногда и те, и другие обнаруживают пропасть в подходах к пониманию тех или иных явлений.
Мы провели более 40 интервью с известными российскими психологами о будущем российской психологии и будущем глобальной психологии как науки и психологической практики. С одной стороны, мы видим заметный тренд на использование новых методов, как в психологических исследованиях, так и в области психологической диагностики.
Прежде всего, речь идет о больших данных. Российские психологи пока еще не почувствовали это в полной мере, но Big Data радикально меняют социальные науки. Данные, регистрируемые нашими цифровыми устройствами, обеспечивают точную картину реального поведения человека. Раньше, чтобы выявить подобного рода закономерности приходилось проводить лабораторные эксперименты. Сейчас данные окружают нас повсюду. Специалисты могут наблюдать за различными реакциями и даже некоторыми намерениями человека 24/7. И я обхожу стороной этические проблемы, которые, конечно, придется решать, в том числе, и психологам. Я говорю о революции в понимании динамики различных психологических феноменов.
Например, уже сейчас мы можем увидеть эту динамику не только в масштабах онтогенеза, то есть развития личности, но и в масштабах поколений, оценивая по по лингвистическим маркерам изменения составляющих картины мира. Или увидеть психологическое эхо исторических событий, которые происходили 100-200 лет назад.
Существует ряд характеристик личности, которые с помощью подобных цифровых следов (например, кликов мышкой) и автоматизированных анализаторов языка можно определить не хуже, чем с помощью классических опросников. Это сильно меняет не только научную психологию, но и психологическую практику. Меняется сама бизнес-модель подобных психологических услуг.
Раньше мы представляли это как визит к психоаналитику в кабинете с кушеткой. Сегодня у эксперта есть доступ к огромному объему данных — переписка в чатах и мессенджерах, странички в социальных сетях, GPS и так далее. Все это дает психологу гораздо более полную картину динамики наших контактов и интересов, эмоциональных состояний, позволяет ему связаться с нами по собственной инициативе, работая на опережение. В этом смысле психологические услуги становятся более доступными.
Более того, в сфере диагностики появляются такие цифровые решения, как боты-психотерапевты — системы искусственного интеллекта, которые действительно могут помочь проанализировать эмоциональное состояние, сложную ситуацию, справиться с панической атакой и пр. И это, в какой-то степени, приносит психотерапевтический эффект.
— Вы как к этому относитесь?
— Я убежден, что подлинное решение проблемы происходит только в отношениях человека с другими людьми. Но бот-психотерапевт, конечно, в силу своей нечеловечности, может быть удобен для современного человека, в ситуациях, когда мы хотим поделиться своими трудностями. Нам легче рассказать о некоторых вещах машине, чем другому человеку. Но так или иначе, существенные изменения в нас самих требуют превращения искусственного интеллекта в посредника, а не часть нашего естества. И в этом состоит существенное ограничение любых голосовых помощников, особенно виртуальных психотерапевтов.
Сейчас мы наблюдаем за уберизацией (заменой посредников (людей или организаций) цифровыми платформами. — Прим. НР) психологии, когда цифровые системы помогают быстрее найти того психолога-практика, который подойдет именно вам. Это направление очень востребовано и популярно в корпоративной среде.
Таким же образом работают различные сервисы в сфере образования, когда выстраивается целая образовательная траектория, круг развивающих человека социальных контактов.
Развитие подобных технологий меняет ситуацию с психологической помощью в России, поскольку у нас действительно заметно некоторое недоверие к психологам. Конкурентом психолога становится шаман или гадалка. И распространение цифровых сервисов может помочь некоторой части наших соотечественников более точно оценивать свое психологическое состояние и своевременно обращаться за психологической помощью к экспертам.
Как мне кажется, будущее подобных систем как раз в том, чтобы служить посредниками в понимании нами друг друга, в выстраивании доверительных отношений. Но они должны разрабатываться одновременно и специалистами по большим данным, и математиками, и психологами. Гуманитарные технологии должны быть сопряжены с цифровыми.
— Подведем итог. О психологическом здоровье стали говорить всё чаще. При этом причин для стресса — всё больше. Как современному человеку сохранять свое психологическое здоровье, особенно в эпоху навязывания страхов?
— Иногда, оказавшись в сложной ситуации, мы понимаем, что многое зависит не от нас. Но как минимум 50% сложившихся обстоятельств происходят из-за наших действий. И в этой «половинке», условных 50% содержится залог нашей уверенности в том, что мы можем влиять на ситуацию, а также ценность нашего прошлого — опыта.
Есть ряд исследований, проведенных известным американским социальным психологом Филиппом Зимбардо. Результаты говорят о том, что наше отношение к прошлому, настоящему и будущему может быть в разной степени сбалансировано.
Парадоксально, но этот баланс сильнее всего определяется не будущим, а отношением к прошлому, способностью ценить даже травмирующий или негативный опыт, собственную историю, историю своей страны, историю своей семьи. И, конечно, это дополняется «гедонистическим настоящим», вниманием к моменту «здесь и сейчас», к осознанному настоящему, к готовности радоваться моменту.
И я хотел бы пожелать нам всем владеть этой способностью к децентрации — способностью менять фокус зрения, смотря на ситуацию под призмой собственного прошлого, настоящего и будущего.
Мне кажется, что человечество выживет благодаря доверию друг к другу, благодаря способности ставить амбициозные цели, благодаря надежде и способности находить решения для сложных задач.
Расскажу о довольно любопытном эксперименте. Одной группе испытуемых предложили провести воображаемую мышку по бумажному лабиринту, спасая от угрозы — воображаемой совы. А другой — провести мышку к сыру — позитивной цели. После испытания участникам предложили пройти тест на креативность. На 50% более креативными были те, кто преследовал позитивную цель и вел мышку к сыру.
В этом, как мне кажется, и кроется ответ на вопрос — что поможет нам условиях неопределенности? Способность доверять друг другу и спокойнее относиться к неопределенности, способность ставить те цели, которые срабатывают как самосбывающиеся пророчества, объединяя нас и развивая в нас готовность помогать и сопереживать друг другу.