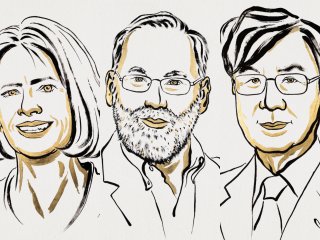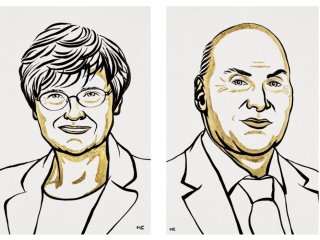Нобелевская премия по физиологии или медицине 2025 г. присуждена Мэри Бранкоу, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за открытие механизмов, которые не дают нашей иммунной системе атаковать собственный организм. О том, как открытия этих ученых повлияли на современную медицину и как еще могут ее изменить, «Научная Россия» узнала у члена-корреспондента РАН, и.о. директора НИИ трансляционной медицины Дмитрия Михайловича Чудакова.
«Речь идёт о регуляторных Т-лимфоцитах — эти клетки отвечают за подавление нежелательных реакций иммунной системы. Это, во-первых, аутоиммунные заболевания, когда иммунная система по ошибке атакует собственные ткани. Во-вторых, аллергические заболевания, когда возникает воспалительная реакция на безобидные внешние антигены. Регуляторные клетки следят за тем, чтобы этого не происходило. С другой стороны, при развитии опухолевого процесса также формируются клоны регуляторных клеток, которые, к сожалению, могут помогать опухоли существовать и развиваться. Соответственно, понимание того, как антиген-специфично работают эти клетки, и умение управлять этим механизмом дает нам возможность разрабатывать эффективное лечение аутоиммунных и аллергических заболеваний. Это востребовано и во многих других медицинских направлениях. Я уверен, что в онкологии мы тоже увидим значительные результаты», — объяснил Д.М. Чудаков.
В качестве примера того, как исследования регуляторных Т-клеток могут быть полезны в онкологии, ученый привел один из первых чекпоинт-ингибиторов, за исследования которого тоже некоторое время назад дали Нобелевскую премию, — молекулу CTLA-4. Эти молекулы находятся на поверхности регуляторных Т-клеток, и такой ингибитор, позволяющий лечить онкологические заболевания, фактически подавляет активность именно регуляторных клеток, давая возможность эффекторным Т-клеткам атаковать опухоль.
«Сейчас мы выходим на новый уровень антиген-специфичного применения регуляторных Т-клеток. Возникает так называемая Treg-TCR-T терапия: когда у регуляторных Т-клеток изменяют Т-клеточный рецептор так, чтобы он специфично подавлял иммунный ответ против конкретной мишени — будь то собственная ткань или внешний антиген в случае аллергии. Эти “обученные” клетки возвращаются пациенту, чтобы точно распознавать “хороший” антиген, против которого не нужна иммунная реакция. Это должно позволить очень эффективно лечить различные аутоиммунные заболевания. Сейчас начинаются клинические исследования при рассеянном склерозе и диабете первого типа, но наверняка появятся и другие», — отметил ученый.
Другим перспективным направлением, которое выделил Д.М. Чудаков, оказались толерогенные вакцины. Это, по сути, «вакцины наоборот». Вместо того, чтобы вызывать ответ со стороны активной иммунной системы, такая вакцина вызывает ответ регуляторных Т-клеток, которые не дают атаковать «хорошие» молекулы. Если эти вакцины будут эффективно разработаны, появится возможность антиген-специфично вызывать толерантность, то есть «объяснять» иммунной системе, что данная молекула — своя или безопасная.
«Есть ещё целый блок вопросов, связанных с взаимоотношениями нашего организма и микробиоты. Здесь регуляторные клетки также крайне важны. Мы живём в балансе с нашей микробиотой: количество микробных клеток в нашем кишечнике сопоставимо с числом наших собственных клеток. И нам необходимо выстраивать с ними гармоничные отношения — не воспаляться и не реагировать агрессивно на, в общем-то, чужеродные антигены, которые в определённых тканях допустимы. За это гармоничное взаимодействие тоже отвечают регуляторные Т-клетки», — подвел итог ученый.
У исследований, завязанных на регуляторные Т-клетки, огромный спектр клинических применений. И, по мнению Д.М. Чудакова, именно на них, возможно, и будет завязано будущее иммунотерапии — прецизионной, безопасной, эффективной, по-настоящему таргетированной терапии для отдельных групп пациентов или даже для индивидуального лечения.
Подробнее о Нобелевской премии по медицине и физиологии этого года читайте на портале «Научная Россия».