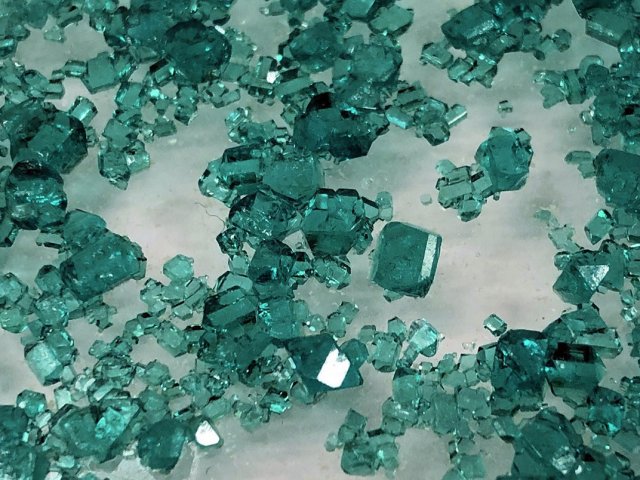Член-корреспондент РАН Виктор Иванович Данилов-Данильян – специалист по математическому моделированию, эколог, экономист. В 1990-е гг. возглавлял федеральное Министерство природных ресурсов и Госкомэкологию, потом стал директором Института водных проблем РАН, теперь – его научный руководитель.
Каждый последний четверг месяца В.И. Данилов-Данильян проводит в родном институте музыкальные гостиные, где читает лекции, а затем погружает слушателей в классическую музыку. Если не знать, что он выдающийся ученый, можно было бы подумать, что он профессиональный музыковед. Но одно другому не мешает. Наоборот, помогает, уверен В.И. Данилов-Данильян: ведь музыка вдохновляет и дает силы. И она, как и природа, вечна.
– Виктор Иванович, вы занимали высокие посты, ваше имя было у многих на слуху. Как вы, математик, выпускник мехмата МГУ, связали свою научную жизнь с водной средой?
– Я не очень стремился на мехмат, хотя у меня в школьные годы было заработано пять премий на математических олимпиадах. Меня интересовала не столько математика как таковая, сколько математизация, поэтому я окончил мехмат по кафедре вычислительной математики. Получив диплом математика, я все время посматривал по сторонам, куда бы эту математику приложить так, чтобы мне было интересно.
Такая область, конечно же, нашлась. Это была экономика. После окончания университета я по распределению три с лишним года отработал в вычислительном центре МГУ, а потом, в 1964 г., пошел в только что организовавшийся Центральный экономико-математический институт. Я был среди первых сотрудников этого института. Занимаясь применением математических методов в экономических исследованиях, я постоянно сталкивался с таким понятием, как природные ресурсы.
Но конкретно природно-ресурсной проблематикой я стал заниматься только с 1976 г., когда из Центрального экономико-математического института перешел в недавно созданный Институт системного анализа. Там я был заведующим отделом системных исследований социально-экономических процессов. А это не только ресурсы, но и общая экологическая тематика. Она напрямую вошла в мои исследования. С 1976 г. у меня появились статьи по экологии. Кстати, среди них была чуть ли не первая публикация в научном журнале, в которой подвергался сомнению проект поворота сибирских рек и так называемой северной переброски из Северной Двины, Печоры в Волжский бассейн и Каспийское море.
– Что же вы там написали?
– Что этот проект вызывает множество возражений и прежде чем его принимать для реализации, нужно эти возражения каким-то образом разрешить и развеять сомнения. Это было за несколько лет до того, как развернулось широкое общественное движение против этих двух проектов и они были остановлены.
– Какие еще проекты вам удалось остановить?
– Будучи министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, а потом председателем Госкомэкологии, я отвечал за экологическую экспертизу. Это были 1990-е гг., и в те годы экологическая экспертиза вела себя очень строго. У нас было больше 30% отвергнутых проектов именно по отрицательному вердикту самой экологической экспертизы.
– А сейчас?
– Знаю, что в 2000 г. все это рухнуло. В 2000-е гг. количество отвергнутых проектов было меньше 3%. Причем в число отвергнутых включались уже и те, которые фактически не были приняты по формальным причинам.
– Вы долгие годы возглавляли Институт водных проблем, а сейчас – его научный руководитель. Как получилось, что вы стали директором этого института?
– Этот институт был главной научной организацией по исследованию проблем переброски рек. Когда эти проекты разрабатывались, институт их горячо отстаивал. Я, правда, не думаю, что 100% сотрудников института были за эти проекты. Видимо, внутренняя оппозиция, пусть даже тихая, но была. Тем не менее все воспринимали этот институт в качестве научного лидера деятельности по подготовке переброски рек.
– То есть он должен был научно обосновать такую необходимость?
– Да. Это была огромная работа. В ней участвовало почти 100 институтов. И российская (тогда еще советская) гидрология совершила благодаря этому самый настоящий рывок. Именно в этом большая польза от того, что эти проекты существовали, хотя и были потом отвергнуты. Такая работа обеспечила качественный скачок в гидрологической науке, и за это спасибо.
Но даже того, что было сделано в ходе этой огромной работы, было недостаточно для научного обоснования. И государственная экспертиза Госплана СССР это констатировала, в ее заключении была сотня с лишним замечаний.
Тут надо понимать одну простую вещь. Некоторые из этих проблем тогда решить было невозможно. А среди них есть такие, которые и сегодня бы не удалось решить. Это все равно, что прогноз погоды. Вам Росгидромет указывает вероятность осуществления своего прогноза. Вот и здесь такая же ситуация. Наука не может однозначно описать все, что будет, если здесь построить водохранилище, дамбу, что-то еще. Природа не так устроена.
– Но вы занимались математическим моделированием природных процессов. Что по этому поводу говорит наука?
– Наука математика в своем составе имеет такую важнейшую дисциплину, как теория вероятностей, а также математическую статистику, которая представляет собой прикладную область по отношению к теории вероятности. Математика как раз наиболее активно занимается сейчас изучением процессов, которые имеют вероятностный характер, либо проблема формулируется как поиск решений в условиях неопределенности. Это нисколько не мешает применению математики, а только усложняет ту математику, которая должна применяться.
– Итак, вы пришли в институт, который научно обосновывал необходимость переброски северных рек, будучи противником этой идеи. Как удалось разрешить это противоречие?
– Решение о прекращении работ по переброске рек было принято в августе 1986 г. Я в то время работал в Академии народного хозяйства при Совете министров СССР. Я и депутатом Госдумы побывал в те два года, когда можно было совмещать работу в правительстве и в Государственной Думе. За эти 15 лет ситуация в институте изменилась. Научный лидер работ по переброске, который тогда был директором, выдающийся гидролог Г.В. Воропаев, скончался. Институт занимался проблемами Каспия, а я был председателем правительственной комиссии по Каспийскому морю. Как бы мы ни спорили насчет сибирской и северной переброски, у нас сохранились совершенно нормальные человеческие отношения. Я был хорошо знаком и с его преемником М.Г. Хубларяном, который здесь был директором почти 15 лет. Мартин Гайкович плохо себя чувствовал в последние годы, исполнять обязанности директора ему было слишком тяжело. Стали думать, кого можно позвать. По формальным признакам я вполне подходил, и мне сделали это предложение. Естественно, меня интересовало, как институт отнесется к появлению директора, который активно участвовал во всех мероприятиях по прекращению работ по переброске. Но меня заверили, что я могу не беспокоиться, что людей, которые начали бы воевать за переброску, тут уже нет. Так оно и оказалось.
– Когда вы стали директором института, он начал заниматься экологическими проблемами. Как я понимаю, одна из ваших ключевых идей – плата за негативное воздействие на природную среду. Это так?
– Эта идея была сформулирована в статье под названием «Выбросы – за плату», которая в «Вопросах экономики» вышла в 1990 г. Этот год был в РСФСР экспериментальным по внедрению описанной там системы. Это касалось не только водных ресурсов, но и воздуха, и почвы.
– Удалось реализовать эту систему?
– А как же. Система до сих пор работает. Конечно, она модифицировалась, особенно в последние годы, когда от принципа предельно допустимых концентраций перешли к принципу наилучших доступных технологий. Для того чтобы система работала, нужно, чтобы она сама по себе была достаточно хороша и чтобы были соответствующие условия для ее работы. Конечно, хорошая система обязана учитывать все условия. Но когда в стране нет денег, а в 1990 г. было именно так, мы должны были думать о том, чтобы сохранить не только природу, но и людей, и промышленность. Поэтому я никогда не настаивал на том, чтобы применять эту систему при максимально жестких параметрах, не делая никаких послаблений. Естественно, все должно быть в рамках закона. И законодательство было как раз устроено так, что можно было делать послабление при наличии соответствующих обстоятельств. Эти обстоятельства проверялись экологической экспертизой, системой экологического контроля. Это не было чиновничьим произволом.
– Хотя ведь всякие послабления, как известно, создают почву для коррупции.
– Это правда. Но природоохранная система 1990-х гг. была, прямо скажем, самой чистой в России. У нас собираемость платежей была больше 90%. Ни по одному виду налогов и сборов не было такого высокого показателя.
– А как это удалось?
– Удалось потому, что система была устроена соответствующим образом. Во-первых, я не доверял и не доверяю до сих пор местным органам власти на 100%. Я считаю, что над ними необходим централизованный федеральный контроль. А уж в экологии – прежде всего. И система была устроена так, что у нас в каждом субъекте федерации был комитет по охране природы, подчинявшийся федеральному министерству (потом, после 1996 г., Госкомитету), а отнюдь не региональным властям.
– И сейчас так же все устроено?
– В 2000 г. эта система была ликвидирована. Был прекращен мониторинг негативных воздействий на окружающую среду, ликвидированы экологические фонды. Все это – «достижения» 2000 г. Система платежей работает хорошо, когда сотрудники заинтересованы в ее результативности. Не потому, что они берут какие-то деньги в качестве зарплаты, премий, еще чего-нибудь. Это было категорически запрещено законом. 90% всех денег, которые собирались в 1990-е гг. в качестве платы за негативные воздействия на окружающую среду, сосредоточивались в системе экологических фондов, и только 10% шли напрямую в бюджет.
А почему работники системы заинтересованы в том, чтобы эта платежная система работала? Потому что эти деньги тратятся на приобретение оборудования – мониторингового и контрольного, на научные исследования, которые связаны с актуальными прикладными задачами, на проектирование природоохранных сооружений, пропаганду и просветительскую деятельность, образование, общественные мероприятия, посвященные охране природы. У нас была первая из государственных систем, вся обеспеченная персональными компьютерами. У наших природоохранных контролеров были служебные автомобили и другой спецтранспорт. Техническая природоохранная база была выстроена за деньги экологических фондов, то есть на средства, получаемые от платежей за негативные воздействия на окружающую среду. Люди были довольны условиями труда, и система работала. А знаете, как боялись природоохранных инспекторов?
– Помню эти времена. Как вы думаете, можно сейчас что-то изменить к лучшему?
– Просто надо вернуться к той системе. Ничего лучшего не придумано.
– Это возможно?
– Была бы политическая воля. В начале 2000-х гг. я написал статью после разрушения всей природоохранной системы, которая называлась «Экология России: в ожидании взрыва?» Взрыва пока не было.
– Но он уже где-то близко?
– Ситуация с мусором, со свалками на грани взрыва. Эту систему нужно организовать, сделать инфраструктуру. Нужно серьезно к этому относиться, а не поручать совершенно некомпетентным людям принимать проекты, выделять деньги.
Почему я выступал против мусоросжигания по технологии Hitachi? Да очень просто. Там семь ступеней очистки. Слишком много. А если какая-то не работает, значит диоксины летят в воздух. Мы ими дышим, подвергая себя опасности канцерогенеза. А у нас решили, что купим технологию, поставим завод – и готово. Во-первых, в этот завод будут гнать несортированный мусор. Во-вторых, технология будет нарушаться с вероятностью 90%. Так и происходит.
Если вернуться к водным проблемам, то и здесь я очень боюсь приближения взрывоопасной ситуации. Во-первых, европейская часть страны (за исключением территории бассейнов Печоры, Северной Двины, Онеги и других северных рек) может через 10-15 лет столкнуться с острой нехваткой воды. И Волжский бассейн, и тем более Донской, Кубанский. Затраты на водопользование так вырастут, что экономика может этого просто не выдержать. И прежде всего это ударит по здоровью.
У нас совершенно варварски обстоят дела в водоохранных зонах. Небоскребы ставят во втором поясе водоохранных зон. Поездите по Московской области. Она у нас в лидерах по уничтожению водоохранных зон, чистоты источников питьевого водоснабжения. Это очень опасно, причем по-разному в разных районах.
– В чем именно эти опасности?
– Вот, например, река Дон. У нее водность упала на 30–40 % за последние 30 лет. Долго думали и искали, за счет чего это происходит. Была распространена точка зрения, что все-таки главная причина – антропогенная. Но убедились в том, что главные причины – природные, изменение климата. В отличие от Волги в бассейне Дона практически нет территорий, которые относятся к лесной зоне, – там лесостепь, степь, где заметно сокращение осадков. В результате происходит сокращение водности этой реки. И сейчас на Дону очень трудная ситуация.
– Что можно сделать в этой ситуации?
– Нужно изо всех сил экономить воду и эффективно ее использовать. Разработан список мероприятий, которые могли бы по крайней мере смягчить проблему. Это мероприятия двух типов. Первые касаются того, что делать с водой, если ее уже забрали. То есть нужны водоэффективные, водоэкономные технологии у пользователей. Вторые связаны непосредственно с состоянием бассейна и с самим ресурсом. Охрана вод, очистка всего, что сбрасывается, разные природно-техногенные стабилизаторы – пруды, лесопосадки и пр. Без этого никак не обойтись.
Мы сейчас находимся лет на 30-40 позади Европы и США. Там похожие ситуации бывали до 1980-х гг., а потом они обратили самое серьезное внимание на эти проблемы. Реку Рейн, основная часть которой находится в Германии, называли тогда клоакой Европы. А в 1993 г. тогдашний министр окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ Клаус Тепфер переплыл Рейн в Бонне, тогдашней столице, как Мао Цзэдун реку Янцзы, но не для демонстрации своего здоровья, а чтобы доказать безопасность такого плавания: после этого он не умер и даже не заболел.
– А вы бы стали сейчас переплывать Дон или Волгу?
– Если бы мне было не 83, а хотя бы 60, Дон, наверное, переплыл бы.
– Потому что он поуже?
– Не только поэтому, но и потому что вода грязнее в Волге. И все-таки она не настолько грязная, чтобы переплыть реку было нельзя. Пока все не так плохо. У нас есть очень загрязненные реки, но они не самые крупные. Это некоторые притоки второго, третьего порядка в Волжском, Обском и других бассейнах.
– Знаю, что вы и Байкалом занимались. Насколько он еще соответствует репутации самого чистого пресного водоема мира?
– Байкал пережил серию очень маловодных лет. Это было естественное явление. Подозревают, что это 60-летний цикл, хотя таких вполне надежных статистических доказательств нет просто по причине отсутствия необходимой информации. 60 лет – большой период. Может быть, если бы не глобальные климатические изменения, воды было бы немного больше. Вместе со всеми чудесами эксплуатации водных ресурсов, какие мы имеем на Байкале, сухие годы привели к очень тревожным последствиям. Впервые за всю историю наблюдений мелководья Байкала зацвели. Это не касается основной толщи воды, где километр-полтора глубины. Это касается именно мелководий. Но туристы скапливаются именно на мелководьях, где относительно пологий берег. Зацвели они не сине-зелеными водорослями. Там свой вредитель, он называется спирогира, зеленая водоросль.
– Ядовитая, как я читала.
– Вы знаете, если большое количество биомассы начинает гнить, то все становится ядовитым. Зеленые водоросли биологически далеко отстоят от сине-зеленых, но тем не менее ведут себя похожим образом. Вода на мелководьях из-за падения уровня стала прогреваться гораздо сильнее. А сине-зеленые водоросли на Байкале не живут: для них там холодно даже в жаркие маловодные годы. Это во-первых. Во-вторых, происходит поступление фосфора вместе с антропогенными стоками. Фосфор – это еда. Температура – это подходящие, благоприятные условия жизни. И Байкал на мелководьях зацвел, чего никогда раньше никто за ним не замечал. Сейчас это закончилось, как только прекратилась череда маловодных лет. Но дело в том, что история с неблагоприятными условиями обязательно повторится — и мы не знаем когда.
Может быть, есть этот 60-летний цикл, а может быть, его нет. Климат теплеет, и это не только рост приземной температуры, но и изменение режима осадков. Как он изменится, достоверно сказать пока никто не может. И в этом опасность. Поэтому совершенно необходимо прекратить загрязненный сток в озеро.
– Как вы считаете, каково влияние антропогенного фактора на глобальное потепление? И есть ли оно? Ведь здесь тоже существуют разные точки зрения.
– 98% ученых, не обязательно гидрологов или метеорологов, считают, что решающее значение для наблюдаемого глобального потепления имеет антропогенный выброс парниковых газов. Да, есть люди, которые придерживаются другого мнения, но их абсолютное меньшинство. Научное сообщество по этому вопросу вполне пришло к консенсусу.
– Когда-то водная среда была исключительно чистой, можно было пить воду из реки или из озера. Как вы думаете, возможно ли возвращение к таким временам? Или наша цивилизация стала платой за нерациональное использование водных ресурсов?
– Если человечество себя не погубит, сумеет выжить, то оно вернет водные объекты к тому состоянию, о котором вы сказали. Это только один кирпичик в разрушающемся здании. Если его не вернуть, все здание обречено. Все разговоры о переселении на Марс или еще куда-нибудь – сладкие сказки. Даже если предположить, что когда-нибудь это окажется технически возможным, как вы думаете, сколько ресурсов нужно для того, чтобы переселить миллиард человек на другую планету?
– Вы можете как математик это посчитать.
– Думаю, такого количества ресурсов у нас просто нет. А ведь это всего миллиард. Конечно, можно переселить «золотую тысячу», но вряд ли такая перспектива понравится остальному человечеству. Поэтому самое время всерьез задуматься. Это лучшее, что мы можем сейчас сделать.
Виктор Иванович Данилов-Данильян, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем РАН