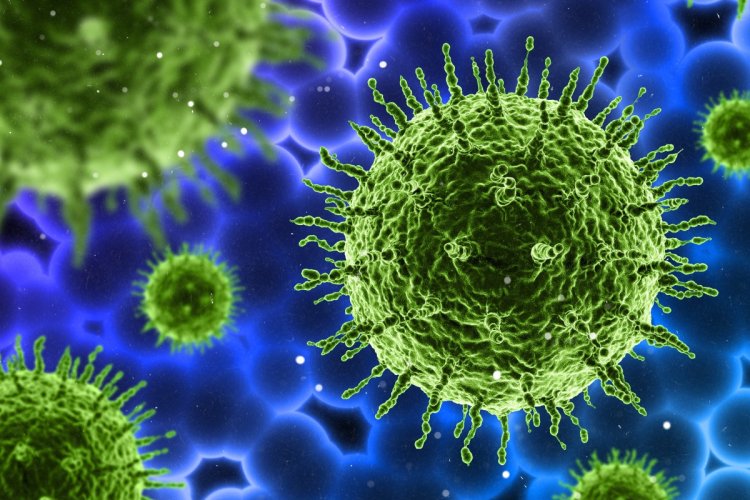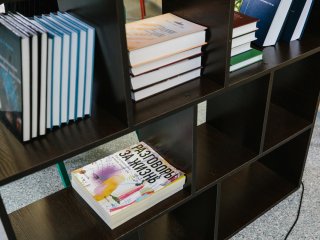Отечественная ветеринарная служба опирается на богатое наследие советских времен и активно движется вперед. Одно из ее направлений — работа с вирусами, опасными и изменчивыми спутниками людей и животных. О том, как развивается эта область, рассказывает директор Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности, доктор биологических наук, академик Алексей Дмитриевич Забережный, автор первой зарегистрированной в России рекомбинантной вакцины для животных. Над чем работают современные вирусологи? Что такое обратная генетика вирусов и зачем она нужна? Какие вакцины и тест-системы для животных было особенно сложно создавать? Почему вакцины для некоторых вирусов пока не созданы? Читайте о ветеринарных технологиях настоящего и будущего в новом интервью «Научной России».
Алексей Дмитриевич Забережный — директор Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности, профессор, доктор биологических наук, академик, член президиума РАН. Автор более 290 научных работ и 23 изобретений. В числе наград А.Д. Забережного — медаль «За достижения в области ветеринарной науки» и премия Российской академии медицинских наук им. Д.И. Ивановского.
Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности специализируется на исследованиях, нацеленных на повышение эффективности агропромышленного комплекса. В числе направлений деятельности — создание биопрепаратов для ветеринарии, животноводства и растениеводства, разработки в области ветеринарно-санитарной и экологической безопасности агропромышленных предприятий, техническое перевооружение биопромышленности.
— Какие достижения и планы вашего института в области ветеринарии вам хотелось бы выделить?
— В 2024 г. нашему институту исполнилось 55 лет. Он был создан Министерством сельского хозяйства СССР как часть Щелковского биокомбината — большого комплекса, в чьи задачи входили масштабирование производства ветеринарных препаратов и разработка различных продуктов ветеринарного назначения, в основном пробиотиков и кормовых добавок. Институт выполняет эти функции и сегодня.
Ранее ВНИТИБП находился под руководством Российской академии сельскохозяйственных наук, затем — Министерства науки и высшего образования РФ, но в 2022 г. он вновь перешел под управление Минсельхоза. В нашу команду вложили большие инвестиции — как материальные, так и интеллектуальные — и поставили перед нами задачу производства лекарственных препаратов ветеринарного назначения. В основном это вакцины, но также и диагностические средства. По распоряжению министра сельского хозяйства к 2030 г. мы должны максимально импортозаместить указанные продукты. И для этой работы институт обрел второе дыхание.
В настоящее время ВНИТИБП активно развивается. Институт участвует в создании научно-производственно-образовательного комплекса государственного значения. Работа над этим проектом ведется совместно со Щелковским биокомбинатом и другими биофабриками и НИИ, входящими в ассоциацию «Ветбиопром». В образовательных программах участвуют также вузы, выпускающие специалистов в области ветеринарии и биотехнологии: Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева, Московский политехнический университет. Комплекс будет заниматься разработкой и внедрением в производство ветеринарных препаратов, обучением студентов и другими задачами, направленными на движение вперед в области сельского хозяйства.
Академик Алексей Дмитриевич Забережный — автор первой зарегистрированной в России рекомбинантной вакцины для животных.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Говоря о прошлых достижениях института, можно выделить некоторые разработки. Одна из них — синтез хитозана и его производных. Это соединение получают из хитина — основы панцирей ракообразных и насекомых. Производные хитозана обладают ценными свойствами. Так, их можно использовать как кормовые добавки для пчел и рыб или изготавливать на их основе адсорбционные кровоостанавливающие повязки, например для военной медицины. Эти технологии уже разработаны нашими исследователями. Однако пока подобные продукты производят из китайского сырья. Чтобы получать их из отечественных материалов, необходимы новые бизнес-решения.
Кроме того, в институте на протяжении десятилетий разрабатываются кормовые добавки и пробиотики для животных. Наши патенты в этой области продолжают выходить и сегодня.
Однако, как я упомянул ранее, в настоящее время наш фокус усиленно смещается на создание ветеринарных вакцин. Именно под эту задачу у нас затачиваются кадры, проходящие подготовку в аспирантуре: на этом концентрируются стажировки, внешние контакты. К нам и на Щелковский биокомбинат целыми автобусами приезжают на подготовку студенты из вузов, которые я назвал выше. В том числе молодые люди практикуются в нашем кружке по генной инженерии. Ребятам у нас нравится.
В настоящее время во ВНИТИБП идет капитальный ремонт. Созданы и продолжают создаваться новые лабораторные помещения. Министерство сельского хозяйства выделяет нам самое современное оборудование для исследований. Благодаря этому мы можем ставить перед собой задачи любой сложности — в том числе привлекая к их решению молодых специалистов, приходящих к нам на подготовку.
— Под вашим руководством и с вашим участием были созданы несколько отечественных вакцин для животных. Какие из этих разработок занимают для вас особое место и почему? Есть ли у этих вакцин аналоги за рубежом? И если да, чем от них отличаются российские версии?
— Пожалуй, особое место для меня занимает вакцина против цирковирусной инфекции свиней второго типа, поскольку это была первая ветеринарная рекомбинантная вакцина1, зарегистрированная в России. Это очень эффективная вакцина, разработанная совместно с научно-исследовательским отделом отечественной компании «Ветбиохим», сейчас занимающейся ее производством.
1Рекомбинантная вакцина — вакцина, включающая не цельный патоген (вирус или бактерию), а его отдельный белок, вызывающий иммунный ответ организма. Для производства таких белков используются специальные генно-модифицированные клетки, включающие часть генома возбудителя болезни.
Источник определения: University of Oxford. Vaccine Knowledge. Types of vaccine
Подобные вакцины есть и на Западе. На мой взгляд, наша версия лучше. Секрет в том, что, как говорится, при приготовлении хорошего чая нужно класть больше заварки. В отечественной вакцине больше действующего вещества.
Примечателен также способ производства этой вакцины — в клетках насекомых. Как известно, у свиней нет ничего общего с насекомыми с точки зрения антигенного перекрестка (то есть в клетках насекомых не могут выработаться никакие побочные вещества, способные вызвать перекрестную реакцию иммунной системы свиней. — Примеч. корр.), поэтому этот метод эффективен.
Создание ветеринарных вакцин — интересная и непростая работа.
Фото: aleksandarlittlewolf / фотобанк Freepik
Еще одна интересная вакцина, которую хочется вспомнить, — вакцина против гриппа А, созданная на базе отдела прикладной вирусологии Института вирусологии им. Д.И. Ивановского и научно-исследовательского отдела компании «Ветбиохим». Цельновирионные реассортантные вакцины против гриппа трудно создавать генно-инженерными способами, поскольку вирус крайне сложен. Мало того, что этот вирус содержит одноцепочечную РНК, так она еще и некодирующая (то есть не несущая информацию о белках) и разбита на восемь сегментов. Чтобы получить вакцину, пришлось «собрать» вирус в лаборатории — это непростая задача для генного инженера. Саму технологию мы заимствовали, но этот метод до сих пор используется в немногих лабораториях, в основном медицинских. Поэтому считаю полезным иметь в ветеринарном арсенале этот высокотехнологичный инструментарий.
В результате получился вирус гриппа с четко заданными антигенными свойствами, не вызывающий клинических проявлений болезни и потому безопасный при производстве вакцин. С ним выгодно работать: он размножается в достаточных количествах и его производство рентабельно. Этот искусственно выведенный патоген несет в себе антиген-гемагглютинин2 целевого вируса, в том числе высокопатогенного. Кроме своей реассортантной природы, рекомбинантный вакцинный вирус может иметь модифицированные последовательности гена гемагглютинина, измененные таким образом, что вирус становится более аттенуированным (ослабленным. — Примеч. корр.) и безопасным. Это соответствует международным требованиям, оговаривающим, что в вакцинах против гриппа не должно быть риска генетической реверсии вируса к «дикому» типу. В настоящее время мы продолжаем работу с этой технологией.
2Гемагглютинин — вещество, вызывающее гемагглютинацию — склеивание и осаждение красных кровяных клеток эритроцитов. Эти соединения в том числе выделяют некоторые вирусы.
Источник определения: Большая российская энциклопедия. Гемагглютинация
— Насколько я знаю, вы развили и внедрили в России несколько современных технологий в области ветеринарной вирусологии. В их числе — обратная генетика РНК-содержащих вирусов. Как можно описать эту разработку и какие задачи она позволяет решать?
— Обратная генетика РНК-содержащих вирусов — это основная сфера моих научных интересов, которой я посвятил много лет жизни.
Что такое обратная генетика? Можно провести аналогию с обратной инженерией: вы берете некое устройство, созданное кем-то другим, разбираете его на части, делаете чертежи, отдаете на завод, и на производстве по этим материалам для вас заново изготавливают исходную систему. Вирус создан Богом — мы не можем получить его с нуля. Но если взять уже существующий вирус, «разобрать» на компоненты и отдать «на завод», то есть внедрить в клетку, в которой патоген будет размножаться, то можно получить вирус заново, а потом еще и внести в него изменения. Так можно описать принцип действия обратной генетики.
Директор ВНИТИБП А.Д. Забережный: «В нашей стране существуют хорошие научные школы в области ветеринарии. Например, у нас есть сильные специалисты по болезням свиней (особенно сильна российская школа по африканской чуме), по болезням птиц и другим направлениям».
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Моя наиболее активная исследовательская деятельность пришлась как раз на начало развития этих технологий. Тогда создание в лаборатории каждого нового вируса становилось сенсацией, об этом выходило множество публикаций. Сейчас получение вирусов в лаборатории — рутинное занятие. Более того, для вирусолога даже считается неприличным работать с вирусом, не полученным искусственным путем. Почему? Дело в том, что при каждом цикле размножения вирус мутирует. И если взять «классический» вирус, размноженный в клеточной культуре, то в моменты репликации он будет постоянно изменяться, то есть его потомки будут иметь новые мутации. В то же время вирус, получаемый в лаборатории методами обратной генетики, формируется на основе одной и той же ДНК-матрицы. Она неизменна, и, сколько бы времени ни прошло, с ее помощью можно снова и снова получать тот же вирус, с которым ты начинал работать.
Получение неизменного вируса при помощи обратной генетики представляет большой интерес для фундаментальных исследований — например, чтобы доказать, что тот или иной структурный элемент патогена выполняет определенные функции. Если мы искусственно изменим выбранный элемент вируса, то у него поменяются соответствующие функции. Таким образом, мы сможем безоговорочно доказать, что определенный элемент вируса ответственен за его конкретное фенотипическое проявление, играет ту или иную роль.
Меня интересует эта область науки. Сейчас обратная генетика стала рутиной и никто не говорит о ней отдельно, лишь иногда упоминая. В настоящее время появилось новое научное направление — синтетическая биология. И обратная генетика стала ее частью.
Синтетическая биология — амбициозная сфера. Она нацелена на создание разнообразных биологических структур, способных проявлять активность в естественных или искусственно созданных условиях, для исследований или использования в практических целях. Сможет ли человек таким образом создать живое существо? Пока этого не произошло. Вирусы не принято относить к живым структурам: мы говорим, что они не живут, а размножаются, не умирают, а инактивируются. Сам факт создания живого существа в лаборатории для многих представляет серьезный «разрыв шаблонов», философский тупик. А синтетическая биология тем временем движется семимильными шагами. Будет ли однажды создана искусственная хромосома? Сложно сказать. Но развитие науки стремительно ускоряется.
— Какие из созданных с вашим участием тест-систем было особенно сложно разрабатывать и почему?
— В зависимости от своей компоновки тест-системы выявляют либо геном возбудителя, либо антитела к нему, либо его поверхностные антигены. Мы работали над разными их видами.
Пожалуй, самые сложные тест-системы — для сильноизменчивых вирусов. К их числу относятся артеривирусы. Например, мы работали над серологической тест-системой3 для вируса репродуктивного и респираторного синдрома свиней (РРСС), основанной на иммуноферментном анализе для выявления антител против этого возбудителя. Она была успешно создана, но с течением времени этот вирус изменяется настолько, что соответствующую тест-систему необходимо модифицировать. В этом заключается сложность.
3Серологические исследования — выявление заболеваний по сыворотке крови и ее составляющим.
Источник определения: Большая российская энциклопедия. Сыворотка крови
Кроме того, всегда трудно работать с коронавирусами. Я бы сказал, что коронавирус — это один из самых «интеллектуальных» РНК-вирусов. Дело в том, что он относится к РНК-содержащим вирусам с одной кодирующей цепью. Но у них у всех ее размер составляет около 15 тыс. нуклеотидов или меньше, а у коронавируса — примерно 30 тыс. То есть коронавирус — это своеобразный «вор в законе», главный среди РНК-содержащих вирусов в своей номинации. Создается даже впечатление, что он обладает своеобразным интеллектом. Для выявления коронавирусных инфекций бывает непросто создавать тест-системы.
«Я бы сказал, что коронавирус — это один из самых "интеллектуальных" РНК-вирусов», — А.Д. Забережный о сложностях, с которыми сталкиваются вирусологи при разработке тест-систем.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
— Вы внесли большой вклад в проекты по мониторингу циркуляции вирусов свиней — классической чумы, а также репродуктивного и респираторного синдрома. Какие технологии использовались в исследованиях?
— Мониторинг вирусов относится к области знаний, называемой эпизоотологией у ветеринаров или эпидемиологией у медиков. Это великая наука, и людей, хорошо в ней разбирающихся, можно пересчитать по пальцам.
Мы с коллегами не занимаемся этим направлением в полном объеме — нас интересует так называемая молекулярная эпизоотология или молекулярная эпидемиология. Это не отдельная наука, а скорее инструмент, позволяющий изучать сродство между выделенными возбудителями заболеваний по анализу их нуклеиновых кислот, в редких случаях — белков. Этот метод сродни криминалистическому анализу. Он помогает определять филогенетические отношения между отдельными представителями вирусов, определяя, какой из них от какого произошел и когда это случилось. Есть даже такое понятие — молекулярные часы: например, можно выяснить, что определенный штамм вируса гриппа появился в Подмосковье за две недели до другого, или же узнать, что один вирус возник на 100 млн лет раньше, чем второй. При этом в обоих случаях выводы будут одинаково точными, поскольку этот метод задействует очень сложную математику. Мы используем его, чтобы правильно построить стратегию разработки вирусной вакцины.
Дело в том, что при получении вакцин против изменчивых вирусов крайне важно знать, куда конкретный патоген стремится в своем развитии, какие он претерпел изменения и насколько сильно отошел от того варианта, против которого делалась предыдущая прививка. Например, вакцинный ослабленный штамм вируса РРСС через каждые 84 цикла размножения вновь превращается в дикий вирулентный. Наверное, это один из самых изменчивых вирусов. Поэтому необходимо постоянно убеждаться в том, что вакцина против него максимально близка к штамму, циркулирующему в настоящее время. Чтобы изучать вирусы, находящиеся в окружающей среде на данный момент, и строить соответствующие филогенетические деревья, как раз и нужен молекулярный анализ.
Мы сотрудничаем в области подготовки специалистов с Московской ветеринарной академией, и я бы хотел, чтобы студентам на кафедре эпизоотологии обязательно читали курс по молекулярным методам построения филогенетических отношений вирусов. Когда человек оканчивает вуз и приходит к нам, он все равно осваивает эти знания. Но было бы лучше, если бы он изучал это ранее, «на школьной скамье».
— Как вы оцениваете развитие отечественной ветеринарии и, в частности, ветеринарной вирусологии?
— Я смотрю на этот вопрос с оптимизмом. Во-первых, мы не одиноки. Например, мы сотрудничаем с отечественными медиками, в частности налаживаем контакты с очень сильной школой в Федеральном медико-биологическом агентстве России.
Во-вторых, в ветеринарном образовании происходят позитивные изменения. Я говорю об этом как человек, принимающий государственные экзамены в Московской ветеринарной академии. И я наблюдаю положительную динамику уже на протяжении многих лет: работы выпускников становятся все глубже. Буквально в этом году мы принимали экзамены у аспирантов, и некоторые молодые специалисты представляли прекрасные диссертации мирового уровня, отличавшиеся подробным анализом проблем и мультидисциплинарным подходом. Кроме того, я около восьми лет проработал в экспертном совете Высшей аттестационной комиссии и видел, какие диссертации и из каких регионов приходят, под чьим руководством они готовятся, как они изменяются по качеству во времени. И, может быть, я просто оптимистичен по натуре, но я смотрю на развитие отечественной ветеринарии с определенным позитивным настроем.
Нужно также отметить, что в нашей стране существуют хорошие научные школы в области ветеринарии. Например, у нас есть сильные специалисты по болезням свиней (особенно сильна российская школа по африканской чуме), по болезням птиц и другим направлениям.
Таким образом, российская ветеринария находится на достойном уровне. В Советском Союзе ветеринарной службой можно было гордиться. Даже если в развитии этой области были спады в связи с экономическими невзгодами 1990-х гг., то в умах и сердцах людей осталась уверенность в высоком качестве отечественной ветеринарии. И я думаю, что такое мнение сохранится.
В некоторых случаях вирус начинает «сотрудничать» с иммунной системой, научившись сосуществовать с ней за миллионы лет эволюции. Это осложняет разработку эффективных вакцин.
Источник изображения: kjpargeter / фотобанк Freepik
— Какие развивающиеся сейчас разработки, на ваш взгляд, можно назвать технологиями будущего в области ветеринарии?
— К настоящему времени сделано множество фундаментальных и прикладных открытий. Поэтому сейчас я выскажу только свое личное мнение — возможно, есть и более интересные технологии.
На мой взгляд, сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда не для всех вирусных инфекций можно с легкостью сделать вакцину. Многие считают, что это возможно всегда: раз есть вирус, достаточно разработать вакцину, привить животное, и оно не будет болеть. Но это не так. Существуют возбудители, против которых очень трудно, если вообще возможно, сделать вакцину. Один из таких примеров — коронавирус кошек. Это был один из первых случаев, когда было показано, что вакцина приносит вред — в данном случае провоцирует у животных развитие инфекционного перитонита. А вот в случае с коронавирусом кур, вызывающим инфекционный бронхит, или в случае с коронавирусами свиней, вакцина, наоборот, работает. Эти феномены требуют изучения, и сейчас предпринимаются попытки осмысления подобных явлений.
В некоторых случаях вирус начинает «сотрудничать» с иммунной системой, научившись сосуществовать с ней за миллионы лет эволюции. И если такой патоген попадает в организм, он может размножаться в фагоцитирующих клетках (иммунных клетках, поглощающих бактерии и вирусы. — Примеч. корр.). Вакцина — это своеобразное обращение к иммунной системе: «Пожалуйста, разберись с этим возбудителем». Так как же мы «попросим» ее справиться с вирусом, если они сотрудничают? Мы уже столкнулись с такими патогенами, и традиционный подход к борьбе с ними на основе имеющихся знаний не всегда будет приводить к положительному результату. В то же время заинтересованные компании все равно будут стараться разрабатывать вакцины против этих инфекций ради коммерческой выгоды.
Несмотря на приведенные примеры, значение вакцинации трудно переоценить — без нее гибли бы и люди, и животные. Практика вакцинирования доказала свою полезность и, безусловно, необходима. Тем не менее появились вирусы, для которых пока не созданы эффективные вакцины. А значит, нужно искать выход. И я хочу поделиться своими мыслями по этому вопросу.
Первая примечательная технология, которая, вероятно, сможет помочь, — это создание этиотропных лекарственных препаратов (направленных на устранение причины заболевания в организме, в данном случае вируса. — Примеч. корр.). Такие вещества уже созданы против некоторых вирусов: например, ВИЧ, гриппа типа А, гепатита С. Может быть, сейчас, пока мы разговариваем, разрабатывается новое лекарство подобного рода.
Раньше этот подход был очень дорогостоящим. Поэтому те же препараты против ВИЧ и гриппа были созданы в результате решения на международном уровне, когда их разработка получила финансовую поддержку от государств. Тогда потенциальные целебные вещества подбирались случайным образом и эффективность каждого из них проверялась экспериментально. Проведение таких испытаний стоит очень дорого.
«На мой взгляд, генетическая модификация животных и создание этиотропных препаратов <...> — это важные дополнения "узких мест", имеющихся в ветеринарной вакцинологии», — поделился А.Д. Забережный.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
В то же время сейчас появились суперкомпьютеры — например, «Ломоносов» в МГУ. Он может рассчитать, какие химические соединения способны инактивировать, связать и вывести из жизненного цикла патогена конкретный белок или другое вещество. Эта технология развивается на наших глазах. Например, недавно я был на ученом совете в НИЦЭМ им. ак. Н.Ф. Гамалеи, где выступал аспирант, рассказавший о своем исследовании. Ему нужно было выяснить, как определенный белок участвовал в жизни бактерии. Ученый решил подавить действие этого соединения и посмотреть, как это повлияет на существование микроорганизма. Для этого он подключил к работе суперкомпьютер «Ломоносов», и тот помог подобрать десять вариантов соединений, способных ингибировать действие этого белка. Автор синтезировал три из них, и все они оказались эффективными. Это говорит о том, что сейчас уже стала доступной технология получения этиотропных соединений для борьбы с вирусными инфекциями — лигандов, способных связывать определенные вещества и выводить их из жизненного цикла возбудителя болезни. Я не специалист в этой области, поэтому могу только предположить, но мне кажется, что это интересное направление.
Что касается второй технологии, которую мне хотелось бы выделить, то о ней я могу с уверенностью сказать, что она заслуживает внимания. Речь идет о создании животных, устойчивых к вирусным заболеваниям. Для некоторых возбудителей уже выведены такие животные — например, свиньи, не подверженные РРСС. За рубежом они уже выходят на рынок, но, так как выход статей об этих достижениях совпал с карантином по COVID-19 (около 2018–2022 гг.), эти новости не получили широкой огласки на международных конференциях.
Как это было сделано? Дело в том, что вирус РРСС узнает в организме животного определенный рецептор — CD163. И с помощью революционного метода генного редактирования, отмеченного Нобелевской премией, появилась возможность вывести генно-редактированных поросят, лишенных этого рецептора и, как следствие, неспособных заразиться вирусом РРСС. Однако рецептор CD163 оказался необходимым для поддержания многих других функций организма, поэтому модифицированные животные были неконкурентоспособными в производственном цикле. Таким образом, удаление всего рецептора оказалось невыигрышным ходом по экономическим и зоотехническим показателям. Но ученые не остановились на достигнутом — они стали пробовать поочередно удалять из рецептора отдельные аминокислоты и смотреть, какое изменение поможет предотвратить прикрепление к нему вируса. В результате нужные животные были получены.
Конечно, вирус имеет возможность обойти эти мутации в процессе эволюции. Возможно, он так и поступит, время покажет. Но, как мне кажется, эту технологию можно применять, чтобы бороться с вирусами, которые не циркулируют на определенной территории, но могут быть занесены, — например, вывести в России свиней, устойчивых к африканской чуме. Ведь для того чтобы вирус обошел мутацию, нужно, чтобы он мог размножаться и эволюционировать. А в промышленных хозяйствах этот вирус не циркулирует, то есть у него нет возможности постоянно совершенствоваться. Соответственно, нет шанса, что он приспособится к модификации и получит распространение в таком варианте. В то же время в ситуации случайного заноса инфекции вирус не сможет заражать животных, так как они будут защищены в результате генного редактирования.
На мой взгляд, генетическая модификация животных и создание этиотропных препаратов, становящихся все дешевле и доступнее, — это важные дополнения «узких мест», имеющихся в ветеринарной вакцинологии. Перед нами стоит большая задача — разработка новых вакцин для ветеринарии с использованием современных знаний и технологий. А вот комплексное применение в ветеринарии всех названных подходов было бы очень интересным.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ
Источник изображений на странице: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия», aleksandarlittlewolf / фотобанк Freepik, kjpargeter / фотобанк Freepik.