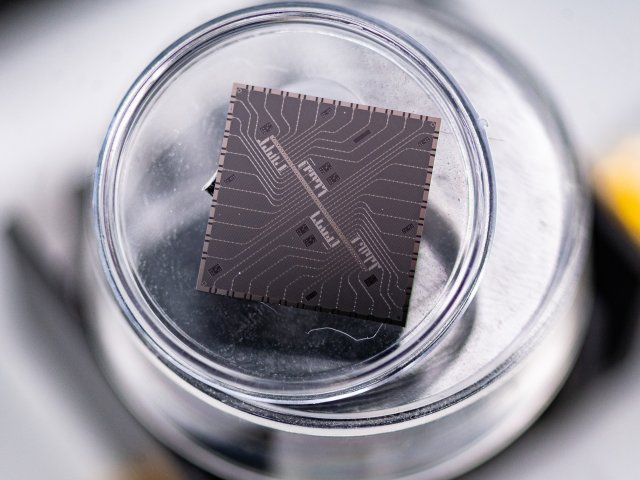Как генетически модифицированные иммунные клетки помогают бороться с онкологическими заболеваниями и в чем заключаются главные особенности такого лечения? Какие исследования в этой области проводят российские ученые и когда ждать внедрения новых препаратов в клиническую практику? Руководительница CAR-T-направления НМИЦ гематологии Минздрава России Аполлинария Васильевна Боголюбова-Кузнецова рассказала об одном из самых перспективных методов лечения рака корреспонденту «Научной России».
Справка: Аполлинария Васильевна Боголюбова-Кузнецова ― иммунолог, кандидат биологических наук, руководительница CAR-T-направления и лаборатории трансляционной иммунологии Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава Российской Федерации, доцент базовой кафедры Института биоорганической химии им. ак. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН на факультете биологии и биотехнологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
― Что представляет собой CAR-T-клеточная терапия рака и можно ли назвать такое лечение персонализированной медициной?
― CAR-T-терапия подразумевает использование генетически модифицированных клеток: как собственных клеток пациента, так и клеток здоровых доноров. Такой вид лечения действительно относится к персонализированной медицине. Если взять классический пример, то лекарственный препарат изготавливают из собственных иммунных клеток пациента. Мы генетически модифицируем их с целью появления на поверхности химерного антигенного рецептора (CAR), затем наращиваем необходимое нам количество и вводим их в организм больного. Таким образом, его собственные клетки приобретают суперспособность распознавать раковые клетки и уничтожать их.
― CAR-T-терапия применяется в первую очередь для лечения рака крови. Почему пока не удается использовать эту технологию, чтобы справиться со злокачественными опухолями органов?
― Все дело в так называемом микроокружении опухоли: в органах нашего организма иммунные и другие клетки формируют своеобразный защитный функциональный барьер злокачественного новообразования, мешающий генетически модифицированным клеткам попасть внутрь опухоли и выполнить свою работу: на них влияет огромное количество посторонних сигналов, ингибирующих их действие извне. Но наука не стоит на месте, и решить эту проблему разными способами пытаются специалисты по всему миру, в том числе и в России. У ученых уже есть определенные успехи: существуют клинические исследования, продемонстрировавшие эффективность CAR-T-терапии для так называемых сóлидных опухолей, о которых вы, собственно, и спрашиваете.
А пока клеточная терапия действительно показывает максимальную эффективность именно в области онкогематологии.
― В качестве пока еще экспериментального лечения?
― Если говорить о том, как обстоят дела в мире (США, Европе и других странах), то CAR-T-терапия перестала быть экспериментальной. Первые клеточные препараты для лечения злокачественных опухолей были зарегистрированы еще в 2017 г., а на текущий момент препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, уже семь. В России же такой вид лечения пока относится к экспериментальным.
В НМИЦ гематологии сейчас проходит первое клиническое исследование отечественного CAR-T-препарата «Утжефра», направленного против антигена CD19.
Мы видим хороший профиль его безопасности и эффективности и очень надеемся, что в 2026 г. наша разработка получит регистрационное удостоверение и станет доступной широкому кругу пациентов.
CAR-T-терапия (от англ. chimeric antigen receptor to T-cells) — инновационный метод клеточной терапии, при котором Т-лимфоциты (иммунные клетки) пациента модифицируются и начинают экспрессировать на поверхности химерный антигенный рецептор, нацеленный на уничтожение определенного типа опухолевых клеток.
Справка: НМИЦ гематологии Минздрава России. Фото: dolgachov / 123RF
― CAR-T применяется, когда другие виды терапии уже не работают, или она может быть первым этапом в лечении рака?
― Любой инновационный метод лечения сначала тестируется на пациентах, у которых больше нет других терапевтических опций. Изначально клинические исследования CAR-T-препаратов проводились на третьей и последующих линиях терапии рака, однако со временем стало понятно, что на эффективность работы генетически модифицированных клеток влияет в том числе и то, какое лечение пациент получил до терапевтического вмешательства. Сегодня CAR-T становится все ближе к самым начальным этапам лечения и проводится уже на второй (и даже первой!) линии терапии. Это справедливо для целого ряда стран мира. Так что сказать, что CAR-T применяют только в безнадежных ситуациях, уже нельзя. Не секрет, что чем раньше пациент начнет получать эффективное лечение, тем больше у него шансов на выздоровление.
― Какие еще интересные особенности CAR-T-терапии вы могли бы отметить?
― Когда CAR-T-клетки вводятся в организм пациента, сначала они начинают активно размножаться в ответ на антигенный стимул (встречу с опухолью), но после того, как работа выполнена и патологические клетки уничтожены, количество генетически модифицированных клеток тоже постепенно снижается. Примечательно, что какое-то количество CAR-T-клеток в организме все же сохраняется, помогая осуществлять дальнейший иммунный надзор над опухолью на протяжении длительного времени: если опухоль снова начинает расти, то клеток-защитников тоже становится больше.
Уже есть данные по десятилетним наблюдениям за такими пациентами. Поразительно, что CAR-T-клетки продолжают работать даже спустя столь продолжительное время!
― Долгосрочный эффект.
― Да. И именно этим клеточная терапия рака отличается от других методов лечения, например от введения моноклональных антител, обладающих более коротким периодом полувыведения.
Введение CAR-T-клеток проводится однократно, после чего они циркулируют в организме длительное время. Врачи отслеживают их активность и контролируют состояние пациента. Справка: НМИЦ гематологии Минздрава России. Фото: captainvector / 123RF
― Если CAR-T-клетки могут так долго сохраняться в организме человека, способны ли они принести еще какую-то пользу организму, помимо уничтожения опухолевых клеток? Может быть, есть какие-то другие, неочевидные, но конструктивные дополнительные эффекты?
― Я не видела исследований по этой теме. CAR-T-клетки все-таки действуют вполне конкретно: они нацелены на определенный антиген, например CD19 ― маркер В-клеток. Но известно, что анти-CD19-CAR-T-терапия может быть полезна и для тяжелых форм аутоиммунных заболеваний, поскольку с ее помощью можно удалить из организма В-клетки ― источники патогенных аутоантител. И мы, как и весь мир, движемся к тому, чтобы постепенно расширять сферу применения наших препаратов от онкологических до аутоиммунных заболеваний.
Еще одним интересным приложением в области CAR-T мне представляется использование клеток здоровых доноров для производства клеточного препарата, то есть создание так называемых аллогенных CAR-T-продуктов. Мы часто видим, что собственных клеток наших пациентов мало и они истощены, то есть не могут эффективно бороться с опухолью. В этом случае на помощь могут прийти CAR-T-клетки с дополнительными генетическими модификациями, полученные от здоровых доноров и способные крайне эффективно осуществлять противоопухолевый иммунный надзор. Главная сложность здесь заключается в чужеродности донорских клеток и, следовательно, в необходимости провести такой спектр генетических модификаций, который позволит им стать «невидимыми» для иммунной системы пациента и долгое время бороться с опухолью, не подвергаясь уничтожению. Мы можем, например, модифицировать клетки, удалив с них маркеры, воспринимаемые иммунной системой пациента как чужеродные. Это очень сложно и дорого, но перспективно. Такие исследования сегодня проводят во всем мире, в том числе и в нашем центре.
― Насколько распространены опухоли крови?
― Если говорить про те опухоли, при которых может применяться анти-CD19-CAR-T-терапия, это достаточно редкие заболевания. Выборка пациентов в России составляет около 2,5 тыс. человек в год. Если же добавить в нее людей с аутоиммунными заболеваниями, о чем я говорила выше, то суммарно будет уже около 10 тыс. Чтобы проводить терапию для такого большого количества людей, нужно иметь целую сеть производств, которые умеют изготавливать эти персонализированные клеточные препараты.
― А как все это организовано у вас в НМИЦ гематологии?
― Есть два подхода к производству персонализированных клеточных продуктов. В первом случае речь идет об огромных централизованных заводах по поточному производству. Такую работу могут себе позволить большие фармацевтические компании. Это очень дорого и крайне сложно, ведь необходимо не только обеспечить полный цикл производства клеток, но и организовать логистику взаимодействия с медицинскими центрами, где препараты применяются. Второй подход ― это локальные производства клеточных продуктов на базе отдельных медицинских учреждений, например федеральных центров, где лечат пациентов, нуждающихся именно в таком виде терапии. За счет того, что и пациент, и производство клеточного продукта находятся на одной и той же территории, сокращаются расходы на транспортировку препарата и экономится ценное время.
Подход, реализуемый в НМИЦ гематологии, можно назвать гибридным: у нас есть собственная производственная площадка, которая находится непосредственно на территории нашего медицинского центра, то есть там, где проходят лечение пациенты.
Такой подход очень важен для того, чтобы отслеживать взаимосвязь между производством и клинической эффективностью терапии. В то же время после получения регистрационного удостоверения мы сможем, как и крупные фармкомпании, производить клеточный препарат и для пациентов, находящихся в других медицинских центрах страны.
CAR-T-терапия показывает высокую эффективность, но имеет ряд ограничений: токсичность, высокая стоимость, сложность технологии, до недавнего времени — недостатки правового регулирования. При этом CAR-T-терапия дает надежду тем больным, для которых химиотерапия оказалась неэффективной. Справка: НМИЦ гематологии Минздрава России. Фото: rawpixel / 123RF
― Какие нежелательные последствия может иметь CAR-T-терапия рака?
― Не стоит думать, что CAR-T ― это какая-то волшебная таблетка. У этого типа терапии есть огромное количество нежелательных эффектов. Самые известные из них — синдром выброса цитокинов, то есть аномальная (избыточная) реакция клеток иммунной системы, или, например, нейротоксичность. Процент таких осложнений достаточно велик. Поэтому очень важно при проведении терапии принимать во внимание индивидуальный медицинский бэкграунд пациента и знать, как проводить терапию осложнений. Радует, что в последние годы врачи все успешнее предупреждают такие нежелательные явления и гораздо быстрее реагируют на них.
― Как часто случаются рецидивы рака после CAR-T-терапии?
― Все очень индивидуально и зависит от конкретного препарата. CAR-T-терапия чрезвычайно эффективна, но не в 100% случаев. На текущий момент мы видим, что частота полного ответа спустя месяц после проведения терапии, то есть полного излечения, составляет около 70%. Но это новый вид лечения, поэтому всеобъемлющей статистики по применению на разных линиях терапии и при разных типах опухолей в реальной медицинской практике, а не в клинических исследованиях, накоплено еще недостаточно.
― 70% в данном случае — это много или мало?
― Это много, особенно для агрессивных опухолей крови.
― Что может сделать сам человек в течение жизни, чтобы его иммунная система работала эффективнее?
― Иммунитет ― это чрезвычайно сложная система, поэтому здесь не может быть простых рецептов и волшебных таблеток. Если говорить в общих чертах, то эти рекомендации всем давно известны: здоровый образ жизни, правильное питание, качественный отдых и отсутствие хронического стресса.
― В одном из своих интервью вы говорили о том, что в работе иммунной системы все определяется балансом сигналов. Что это значит?
― Все клетки нашего организма, включая иммунные, постоянно находятся в окружении других клеток и сигналов от них. Поэтому то, как отреагирует клетка на лечение, станет ли она продуцировать определенные сигнальные молекулы, зависит от баланса сигналов, поступающих к ней извне. Он индивидуален для каждого организма. Для каких-то клеток добавление определенного сигнала может быть полезным, а для других ― крайне опасным, как мы видим на примере синдрома выброса цитокинов. В этом случае иммунная система получает сигнал о существовании угрозы, в ответ на это она начинает избыточно продуцировать цитокины ― сигнальные молекулы, отвечающие за помощь иммунитету, которые в данном случае работают против организма.
Определить ту грань, что отделяет полезные сигналы от вредных, крайне сложно. Это зависит от конкретной ситуации, локализации и индивидуальных особенностей пациента.
― Какие у вас планы на ближайшее будущее?
― Наши клинические исследования анти-CD19-CAR-T-препарата «Утжефра», рассчитанные на 2024–2025 гг., продолжаются. Все пациенты, которые должны пройти процедуру CAR-T-терапии, обязательно получат свое лечение. Затем мы проанализируем все результаты и будем подавать документы на получение регистрационного удостоверения. Но даже сейчас, основываясь на предварительных итогах, можно сказать, что наш препарат эффективен и безопасен.
Я руковожу научной группой, которая занимается трансляционной иммунологией. Это значит, что мы транслируем современные открытия и подходы из области иммунологии в реальную клиническую практику. Помимо «Утжефры», у нас на подходе и другие клеточные лекарственные препараты для терапии различных опухолей. Кроме того, мы изучаем данные о том, как ведут себя генетически модифицированные клетки в организме пациентов, и, как я уже говорила, планируем расширить свое пока что локальное производство клеточных продуктов.
Еще одна чрезвычайно важная задача для нас ― наладить связь между врачами, работающими непосредственно у постели больного, и учеными, создающими новые CAR-T-клеточные препараты. Я уверена, что такое взаимодействие сможет значительно продвинуть нашу область исследований, а если сюда добавить еще и образование (напомню, что в НМИЦ гематологии есть аспирантура, ординатура и курсы повышения квалификации), то результат обещает быть поистине удивительным.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ