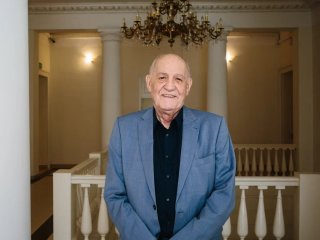Как изменилась отечественная и мировая урология за последние 30 лет? Какие появились новые оперативные методики? Что должно меняться в медицинской отрасли, а что — оставаться неизменным? Как вырастить хороших учеников? Об этом рассуждает академик Олег Борисович Лоран, ведущий уролог Боткинской больницы, заведующий кафедрой урологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО).
Олег Борисович Лоран. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
Олег Борисович Лоран — доктор медицинских наук, профессор, уролог-хирург с мировым именем, известный специалист в области реконструктивно-пластической хирургии. Заслуженный деятель науки РФ, практик и новатор, вырастивший не одно поколение учеников. Олег Борисович разработал и внедрил в практику уникальные операции по восстановлению мочеиспускательного канала, лечению сложных форм недержания мочи, последствий повреждений мочеточников и мочевого пузыря у женщин. Ученый начал применять операции по формированию искусственного мочевого пузыря из изолированных сегментов кишечника. Одним из первых в стране начал выполнять радикальные простатэктомии, имплантировать отечественный искусственный сфинктер мочевого пузыря, в разработке которого принимал непосредственное участие.
— Олег Борисович, у вас множество замечательных учеников, в том числе таких, как Андрей Дмитриевич Каприн, Дмитрий Юрьевич Пушкарь. Каждый раз во время интервью они вас с благодарностью вспоминают. Как вам удается выращивать таких учеников?
— Основы характера закладываются в семье. Я очень хорошо знал отца Андрея Дмитриевича Каприна — это Герой Советского Союза, летчик-истребитель, удивительный человек. Я прекрасно знал семью Дмитрия Юрьевича: папа — известный терапевт, мама преподавала в стоматологическом институте на кафедре микробиологии. Семья воспитывает трудолюбие, целеустремленность, уважение к старшим, коллегам. А эти качества надо развить и направить в нужное русло. Поэтому никаких особых усилий с моей стороны не потребовалось. И Андрей Дмитриевич, и Дмитрий Юрьевич были кружковцами — они уже в вузе знали, что будут урологами. Они много дежурили, я иногда помогал им, выезжая по ночам на операции. Но было понятно, что это люди талантливые, у них были замечательные диссертации — трудоемкие, которые не только требовали знаний основной специальности, но и, как говорил Николай Нилович Бурденко, «обладали образованной осведомленностью в пограничных дисциплинах». Я им помогал на их жизненном пути.
— А вы тоже рано поняли, что хотите быть урологом?
— Я вырос в творческой семье. Со стороны батюшки — люди искусства: дед был солистом, а затем режиссером в театре им. К.С. Станиславского, папа — архитектором. А с маминой стороны все были врачи. Они в основном присутствовали на домашних встречах, и врачебные разговоры, которые я с детства слышал, помогли мне в выборе профессии. У меня не было сомнений, что я стану врачом и, конечно, хирургом, хотя таковых в нашем роду не было. Мама была микробиологом, тетки — терапевты, педиатры, психиатры, дяди — дерматологи, эпидемиологи, двоюродный дед — известный в Крыму акушер-гинеколог. Но близкая подруга нашей семьи Ирина Ивановна Раскина, доцент в Третьем медицинском институте, была блестящим хирургом. И когда зашла речь о выборе специальности, она решительно сказала: «Олег будет только хирургом. Точка».
— Сказала как отрезала.
— Да. Таким образом, эта замечательная женщина дала мне путевку в жизнь. И я в институте основное внимание уделял хирургическим специальностям. Больше всего интересовала урология. А потом решил, что, прежде чем заниматься урологией, надо знать общую хирургию. Поэтому уехал на Урал, проработал там три года, о чем не жалею, потому что это действительно была серьезная школа — и профессиональная, и жизненная. Кстати, из этой больнички вышло за всю ее историю существования 12 профессоров. Хирургическое отделение на 90 коек, замечательные ребята. К сожалению, сейчас эта больница практически разрушена — я там был в этом году. Стало грустно.
— Вы специально туда ездили?
— У нас в Екатеринбурге была конференция, а этот городок, Верхняя Салда, в 200 км. Работает градообразующее предприятие — это был единственный в Советском Союзе титановый завод, 18 тыс. рабочих. А больницы нет, потому что она в городском статусе, а районные больницы получают дотацию от государства в размере 50 тыс. рублей. Поэтому врачи и медсестры ушли. Больничка стоит, хотя есть главный врач, заместитель по хирургии, две-три операционные сестры, но больных нет. Всех их отправляют в Нижний Тагил, а это 60 км от города.
— А как вы попали в Боткинскую больницу, где работаете уже очень много лет?
— Это счастливый случай. Был такой известный, к сожалению, покойный, выдающийся человек — Владислав Валентинович Тетюхин. Он москвич, приехал в Салду главным технологом завода, уже в 30 с небольшим был доктором технических наук, лауреатом Ленинской премии. Его решила навестить матушка, приехала, увидела этот городишко, пришла в ужас. Случился инфаркт, и на высоте инфаркта у нее возник приступ острого аппендицита. И мы — мне тогда было 22 года, моей подруге Тонечке Байковой было 25 лет (такие мощные хирурги) — посмотрели, сказали, что бог с ним, с инфарктом, острый живот, будем оперировать! Прооперировали, оказался гангренозный аппендицит. На следующий день приехала ее племянница — анестезиолог из Боткинской больницы — с мешком лекарств, спасать тетушку. А тетушка сидит и ест манную кашу. Она страшно удивилась, потом с нами пообщалась, несколько дней пробыла в нашей больничке, и как-то в разговоре узнав, что я москвич, сказала, что сейчас в Боткинской больнице профессор Дмитрий Вавильевич Кан возглавил новое отделение урогинекологии и приглашает сотрудников, неплохо бы мне поучаствовать в этом процессе. Я отпросился у нашего главного врача: полагалось тогда проходить специализацию, а поскольку я тогда числился урологом и был единственным хирургом, который владел цистоскопией, катетеризацией мочеточников, меня отправили в Боткинскую больницу повышать квалификацию. Дмитрий Вавильевич — мой учитель, я у него пробыл почти два месяца, и в один прекрасный день он меня пригласил в кабинет, спросил, не хочу ли я у него остаться ординатором. Какое счастье, мечта! Но главный врач меня не отпускает. Тогда мои товарищи-хирурги — а нас на весь район вместе с заведующим было всего пятеро — пришли к главному врачу и сказали, что, если она меня не отпустит, они все уволятся.
— Решительные ребята! Отпустили?
— Мало того что главный врач меня отпустила, так она еще и пригласила начальника отдела кадров и попросила оформить не увольнение, а перевод в Боткинскую больницу для участия в конкурсе. Это был 1969 г., 55 лет прошло! Так что начинал я врачом-ординатором Боткинской больницы по конкурсу. Меня приняли, несмотря на отсутствие урологического стажа, но тем не менее тут же мой учитель поручил мне работу над кандидатской диссертацией.
— О чем она была?
— Она была посвящена функции почек при мочеполовых свищах. Это было урогинекологическое отделение Боткинской больницы.
— Если взять эти 55 лет, что вы работаете в Боткинской, что кардинально изменилось в вашей специальности?
— Очень многое. Во-первых, совершенно обоснована тенденция к малоинвазивным операциям, в частности лапароскопическим, роботическим малотравматическим операциям. Уходят в историю открытые оперативные вмешательства, и это правильно.
— Как вы думаете, открытые операции останутся или их не будет вообще?
— В каком-то количестве останутся. Например, в уретральной хирургии при лечении некоторых мочеполовых свищей как у мужчин, так и у женщин. Основные оперативные вмешательства уйдут в робот-ассистированную хирургию, лапароскопическую, эндоскопическую. Конечно, это большой шаг вперед. Я всегда направлял своих ребят на усовершенствование и к нашим блестящим специалистам, а у нас таких много. Сегодня робот-ассистированная хирургия действительно вытесняет открытую, и это правильно.
— Когда о вас читаешь в академических справочниках, часто присутствует слово «первый»: он первым ввел такую-то методику, придумал такую-то. Расскажите, в чем вы сами себя считаете первым?
— Я первым начал выполнять радикальную простатэктомию при раке предстательной железы. Сейчас это рутинная операция, достаточно эффективная при локализованных формах рака. Впервые, еще в 1983 г., выполнил радикальную цистопростатвезикулэктомию при инвазивном раке мочевого пузыря, сформировав искусственный мочевой пузырь из сегмента кишечника. В свое время мы с моим покойным другом профессором Евгением Леонидовичем Вишневским разработали искусственный сфинктер мочевого пузыря. Идея была очень интересной, она отличалась от идеологии американских сфинктеров AMS.
— В чем разница?
— Принцип действия AMS — это сжатие мочеиспускательного канала. А у нас была комбинация манжеты, которая сдавливала мочеиспускательный канал для препятствия истечению мочи, и петли, меняющей анатомию мочеиспускательного канала. Хорошая была идея, но, к сожалению, не было таких высокотехнологичных материалов, которые могли бы этот сфинктер запустить в серийное производство.
Олег Борисович Лоран. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
— Эта технология применяется при недержании мочи у мужчин. А как сейчас помогают таким людям?
— Только американской системой. Ничего отечественного пока что нет, к сожалению.
— А если бы вам дали финансирование, вы бы смогли сейчас наладить производство отечественных сфинктеров?
— Тоже интересный вопрос. Это общая беда в нашей науке и в медицине в частности: разработка каких-то лекарственных препаратов, аппаратуры, инструментария проходит в несколько этапов и завершается созданием опытного образца — на этом все заканчивается. Нет спонсоров, которые могли бы обеспечить серийное производство этих приборов. Такая же история со сшивающими аппаратами, которые были изобретены еще в 1950–1960-е гг. в Боткинской больнице. Все эти сшивающие аппараты мы теперь получаем из-за границы. Недавно сотрудники Института общей физики РАН сделали великолепный прибор для фотодинамики при раке мочевого пузыря. И по дизайну, и по всем критериям он не уступает немецкому, но стоимость в десять раз ниже. Стоит у меня этот аппарат, пользуемся, но он единственный.
— Абсолютно уникальный образец, и есть только у вас. Что нужно для того, чтобы создать серию таких аппаратов?
— Государева воля и побольше таких людей, настоящих патриотов, как Владислав Валентинович Тетюхин, который в 1990-е гг. поднял из руин верхнесалдинский завод по производству титана, а за несколько лет до ухода из жизни продал собственные акции и на вырученную огромную сумму построил и оборудовал в Нижнем Тагиле современную клинику.
У нас всегда было много талантливых людей. Дробление камней — Лев Александрович Юткин, наш соотечественник, похоронен на Пискаревском кладбище. Сшивающие аппараты — Валентин Феликсович Гудов, наш соотечественник. Владимир Петрович Демихов — основоположник всей трансплантологии в мире. Первые пенильные протезы у пациентов с повреждением наружных половых органов — Николай Алексеевич Богораз, Ростовский университет. Анатолий Павлович Фрумкин — основоположник нашей кафедры урологии. Препараты для растворения уратных камней — жидкость Айзенберга, нашего соотечественника. Когда я учился на четвертом курсе, он приходил на наши лекции по урологии, демонстрировал эти литические смеси. Теперь мы их покупаем в Германии. Грустная история. А главное, когда я спрашиваю молодых докторов, кто такие Владимир Петрович Демихов, Валентин Феликсович Гудов и другие, они не знают. Вот что обидно. Нужно знать историю не только своей страны, но и своей специальности. Много интересного и полезного, особенно для молодых врачей.
— Во время нашего предыдущего интервью вы рассказывали, что оперируете мужчин, которые в результате радикальной простатэктомии и некоторых других операций теряют способность иметь детей, и прежде чем они идут на такую операцию, у них собирают биоматериал. Тогда вы говорили о трех или четырех малышах, рожденных после этих операций. А сейчас что?
— Многие уже выросли, наверное, стали студентами.
— Вы как-то следите за их судьбой?
— К сожалению, нет. Это вопрос этический, интимный. Хочу сказать, что оперировал многих пациентов по поводу инвазивного рака мочевого пузыря, создавал им искусственный мочевой пузырь из сегментов кишечника. Потом они пропадают. Это, видимо, особенность менталитета: если все хорошо, человек исчезает. Один недавно появился — после операции прошло 18 лет! Пришел, потому что у него преходящее острое нарушение мозгового кровообращения, и он попал в Боткинскую больницу в неврологию. Вышел без особого дефекта, зашел поздороваться.
— И вы его узнали?
— Конечно. Я не забываю пациентов, таких сложных — особенно.
— Какие у вас сейчас самые сложные пациенты?
— Самые трудные — в основном женщины, пострадавшие от лучевой терапии. Их становится все больше. Они, как правило, никому не нужны. В основном это молодые женщины, получавшие комбинированное лечение по поводу рака шейки матки. У них трубки в почках, сморщенные мочевые пузыри, мочевые свищи — они тяжелые инвалиды, выброшенные из жизни. Очень сложные операции с сомнительным прогнозом. Но кое-чего мы добились: мы изменили парадигму, само отношение к этим пациентам. Во всем мире им формировали так называемые влажные стомы и они были вынуждены доживать с мочеприемниками. Мы им пытаемся — и небезуспешно — восстанавливать нормальное мочеиспускание. Это серьезнейшие реконструктивные операции. Таких пациентов у нас за последние десять лет — 300 с лишним человек. Недавно апробирована и представлена к защите докторская диссертация одного из моих учеников как раз по персонализированному подходу к реконструктивным операциям после лучевых поражений мочевыводящих путей.
— Наверное, нелегко иметь дело с такими пациентами?
— Нелегко, но от этих операций получаешь огромное удовлетворение, когда совершенно несчастная женщина, глубокий инвалид, вдруг возвращается к нормальной жизни. Это счастье. Одна из них, педагог, мне прислала видео, где она вальсирует со своими учениками на выпускном вечере. Сейчас эту «эстафету» подхватили профессор С.В. Котов, который заведует кафедрой в РНИМУ им. Н.И. Пирогова, и доцент Р.И. Гуспанов в Первой городской больнице. Это все мои ученики.
— Вы продолжаете выращивать выдающихся учеников?
— Стараюсь. Сергей Владиславович — блестящий хирург, несмотря на молодость. Он самый молодой заведующий кафедрой урологии в России. Талантливый, необыкновенного трудолюбия. Они с Ренатом Иватуллаевичем взяли на себя труд лечить таких пациентов, чему я очень рад. Этими же пациентами успешно занимаются и сотрудники академика А.Д. Каприна в Обнинске.
— Мы с вами общаемся в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Какую роль вы здесь играете?
— Академик Андрей Иванович Воробьев, замечательный клиницист, называл наше учреждение кузницей медицинских кадров. Так и есть. Моя первая научная публикация была еще в 1970 г. в сборнике молодых ученых Центрального института усовершенствования врачей (ЦИУВ) — так раньше называлась Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования (РМАНПО). Сегодня я заведую кафедрой урологии в академии. Конечно, преподавать и обучать врачей значительно сложнее, чем студентов.
— Почему?
— Уровень другой. Когда я учился в Первом медицинском институте, у нас были кафедры общей хирургии, факультетской и госпитальной. Это ступенчатое образование, абсолютно правильное. Если бы меня спросили, как я вижу перспективы медицинского образования, я бы ответил одной фразой: вернуться к советскому медицинскому образованию, которое было признано лучшим в мире. Тогда при Минздраве было Главное управление учебных заведений, которое возглавляли выдающиеся врачи, академики. Все медицинское образование было там. Сейчас времена изменились, к сожалению, не в лучшую сторону.
— А что вы можете сказать про РМАНПО? Здесь все устроено правильно? Или вы бы тоже вернули к советской системе?
— Спохватились, к счастью, вовремя, и теперь мы работаем над новыми программами последипломного образования, исключающими онлайн-образование. Это нанесло образованию такой вред, с которым мы будем еще долго справляться. Какое может быть онлайн-образование у хирурга, да и вообще у врача? Наше место — у постели больного! Костяк нашей академии правильно воспитан еще в советские времена. У нас замечательные педагоги, и они стараются воспитать достойную смену.
— Мы с вами первый раз общались лет 15 назад — вы и тогда активно оперировали, и сейчас продолжаете. Глядя на вас, у меня язык не поворачивается спросить, не устали ли вы, не тяжело ли. Но все же спрошу.
— Конечно, я уже не тот, как 20 лет назад, но тем не менее вчера оперировал почти четыре часа, была сложнейшая операция. Удалял пораженный лучами мочевой пузырь у доктора, которого оперировали и облучали по поводу рака предстательной железы. Дело кончилось тем, что у него сморщился мочевой пузырь, в нем была трубочка, которая вызывала постоянные боли.
— Сейчас у него жизнь изменится качественно?
— Конечно, изменится в лучшую сторону. Вообще, сегодня в онкологии и в частности в онкоурологии цель — не только радикально излечить, но и обеспечить качество жизни. Иначе, когда человек живет с трубками в почках или мочевом пузыре — разве это жизнь?
— О чем вы мечтаете?
— Я счастливый человек: у меня были замечательные родители, замечательные учителя, у меня замечательные ученики. Я ими горжусь, считаю и всегда искренне считал, что ученики должны превзойти своих учителей, иначе прогресса не будет. Мечтаю о том, чтобы те традиции, которые заложены нашими учителями, учителями наших учителей, нами, нашим поколением детей войны — сохранялись. Чтобы те принципы медицины, которые были сформулированы еще Гиппократом, сохраняли свою актуальность. Это пять основных принципов: не навреди, излечи, помоги, облегчи, утешь. И если сохранятся традиции нашей отечественной медицины, когда лечили больного, а не болезнь, это будет правильно. Главная ошибка, беда современной медицины — формирование машинного доктора. Многие молодые врачи не видят пациента, а видят только данные его исследований. Если это все вернется на круги своя — то, что составляло гордость и основу нашей российской медицины, — значит мои мечты осуществятся.
— Это не бесплодные мечты? Почему это должно вернуться? Мне кажется, общество наоборот движется к цифровизации.
— Цифровизация тоже имеет определенные пределы. Конечно, сейчас появилась возможность прижизненной трехмерной реконструкции органов, и мы эту методику широко используем, это большой шаг вперед. 3D-биопринтинг, те же роботы, которые помогают хирургам. Это большое дело, как и элементы искусственного интеллекта, но я считаю, что это не должно заслонить человека. Для нашей профессии по-прежнему важно поговорить с пациентом, понять, какое лечение ему можно предложить, чтобы это его устроило и не принесло лишних страданий. Это должно остаться навсегда.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ