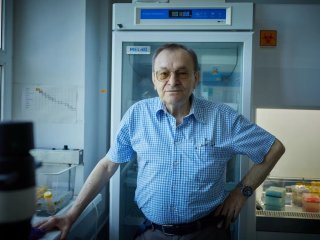Как зарождается раковая клетка? В какой момент и почему это происходит? По какой причине такая клетка становится устойчивой к лекарственной терапии? Можно ли это преодолеть? Какие есть в этой области новые достижения и перспективы? Почему ученым никак не удается решить все проблемы? Рассказывает член-корреспондент РАН Владимир Сергеевич Прасолов, заведующий лабораторией клеточных основ развития злокачественных заболеваний Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.
Владимир Сергеевич Прасолов. Фото Елены Либрик / Научная Россия
Прасолов Владимир Сергеевич — доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор. Научная деятельность ученого связана с изучением онкогенов и молекулярных маркеров эволюции, созданием эффективных ретровирусных систем переноса и экспрессии генов в клетках животных и человека и их применением в фундаментальных исследованиях. Ученым ведется разработка оригинальных вычислительных методов для определения рисков течения онкозаболеваний и предсказания эффективности действия противораковых препаратов.
— Как для вас начались эти исследования?
— Я пришел в Институт молекулярной биологии АН СССР в лабораторию академика Владимира Александровича Энгельгардта, когда был студентом третьего курса кафедры вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова. Владимир Александрович, основатель нашего института, выдающийся биолог, занимался в то время молекулярными механизмами синтеза белков. Я тоже включился в эти исследования. После защиты дипломной работы поступил в аспирантуру института, где стал заниматься аминоацил-тРНК-синтетазами. Эти ферменты, осуществляющие присоединение определенной аминокислоты к тРНК, важны для корректной трансляции и безошибочного биосинтеза белка в клетках. А в начале 1970-х гг. весь мир стал заниматься интересным ферментом — обратной транскриптазой, ревертазой, как ее назвал Владимир Александрович. Это тот фермент, который первым был открыт у ретровирусов.
— Чем он интересен?
— Он интересен тем, что осуществляет синтез двухцепочечной ДНК на одноцепочечной РНК-матрице. Необычно то, что он строит ДНК на РНК. Другая отличительная черта этого фермента — он обладает двумя формами активности: способностью осуществлять синтез ДНК на РНК-матрице, но еще, что очень важно, активностью рибонуклеазы Н. Фермент все время находится в ретровирусной капсиде, однако не разрушает геномную одноцепочечную РНК ретровируса, также находящуюся в капсиде.
— Значит, ретровирусы стали главным объектом ваших исследований?
— Да. Из разных лабораторий мы получали ретровирусы, например лейкоза мышей или еще какие-то родственные ретровирусы, и уже из них выделяли фермент обратную транскриптазу. Удавалось в течение одной недели выделить из ретровируса достаточно много высокоочищенного фермента. К счастью, в то время появились приборы, которые позволили в теплой комнате подавать охлажденный раствор на хроматографические колонки, где шла очистка обратной транскриптазы.
— А до этого работали в холоде?
— Раньше таких приборов, которые могли охлаждать только колонку, у нас не было, поэтому иногда целыми днями нам приходилось сидеть в ватниках в холодных комнатах при температуре 5–10 °С.
— В какой же момент родилась лаборатория?
— Лаборатория сформировалась где-то в 1984–1985 гг. Если раньше мы работали на бесклеточных системах, то в этот период в биологии произошел революционный переход к возможности изучения ферментов или каких-то процессов в составе живой клетки. А у меня к тому времени был позитивный опыт работы с культивируемыми клетками животных и человека. Я около года проработал в Токио в Национальном раковом центре. Там я имел дело с живыми нормальными и злокачественными клетками. Когда после командировки я вернулся в Москву, нужно было развивать эти работы на клетках в нашем институте. Говорили, что раз я столько времени пробыл в Японии, то должен помочь все это воссоздать. Что мы и сделали. Сначала лаборатория называлась просто клеточным блоком. Появилось много коллег, желающих с нами работать. Так на основе группы клеточного блока была сформирована лаборатория. Ее основным направлением стало развитие систем переноса и экспрессии целевых и маркерных генов, а также направленного избирательного подавления экспрессии определенных клеточных генов. Создание лаборатории было поддержано двумя замечательными учеными — академиками Александром Александровичем Баевым и Александром Антоновичем Краевским. Появилась возможность набирать в лабораторию студентов и аспирантов, которые хотели работать в этой области.
— Где вы их брали?
— Они приходили к нам из МГУ, Физтеха и медицинских институтов. Надо сказать, в тот период мы много работали вместе с Петром Михайловичем Чумаковым, теперь академиком. Это было запоминающееся время для нас обоих: работа шла очень эффективно, с большим интересом. Помню, мы часто засиживались до 12 ночи. У Петра Михайловича тогда был старый «Москвич», на нем мы и уезжали домой. Всегда брали чайник с кипятком.
— Зачем?
— В районе метро «Парк культуры» мы постоянно останавливались и доливали в радиатор Петиной машины горячую воду. Иначе она не ехала. Все таксисты, которые ночью стояли у метро, нас приветствовали как своих. В этот счастливый период мы с Петей сконструировали первую в нашей стране и одну из первых в мире эффективных систем переноса и экспрессии генов в перевиваемых эукариотических клетках (человека и животных). В системе были использованы векторы, сконструированные нами на основе геномов ретровирусов. Такие векторные системы до сих пор широко используются как в фундаментальных исследованиях, так и в биотехнологическом производстве и биомедицине.
Разработанная система важна и для изучения рака. Это один из инструментов для понимания, какой вклад вносит тот или иной ген в общее состояние клетки и в ее перерождение в злокачественную. С другой стороны, система актуальна и для нахождения способа подавления активности таких генов. Над этим лаборатория сейчас интенсивно работает. Основная цель — попытаться понять, почему раковые клетки устойчивы к тем или иным химиотерапевтическим агентам.
Владимир Сергеевич Прасолов. Фото Елены Либрик / Научная Россия
— Какие тут есть практические результаты?
— Хочется отметить значимые результаты работы наших молодых сотрудников. Все они приходили в лабораторию еще студентами, это мои ученики. Сегодня они владеют самыми современными методами, включая биоинформатические подходы, оценки активности раковых клеток и ее подавления. Так, Тимофей Дмитриевич Лебедев разработал автоматический способ исследования активности генов в раковых клетках путем измерений их многочисленных фенотипических параметров: как они выглядят, как меняются. Он работает над этим с большим увлечением, у него есть студенты и аспиранты, которые также с энтузиазмом проводят исследования в данном направлении.
Второе направление ближе к тому, с чего мы начинали, и я в этом также активно участвую. Тут преуспел один из моих первых сотрудников, который со мной работает около 20 лет. Это Павел Владимирович Спирин, у которого совсем недавно состоялась защита докторской диссертации.
— Родственник академика А.С. Спирина?
— Нет, не родственник. Хотя эта фамилия мне очень дорога. Мы с Александром Сергеевичем последние лет 25 его жизни тесно общались не только по науке, но и по жизни. Он был большим знатоком животного мира, я тоже еще в школьные годы посещал кружок юных биологов Московского зоопарка (знаменитый КЮБЗ). Уход Александра Сергеевича из жизни был для меня большой утратой.
А Павел Спирин успешно занимается изучением вклада различных генов в развитие ракового процесса. Он тоже пытается выяснить, как меняются сигнальные пути в клетке при злокачественном перерождении клеток и каким образом злокачественные клетки становятся устойчивыми к различным противораковым препаратам. Решение таких задач направлено на преодоление такой устойчивости злокачественных клеток к химиотерапевтическим агентам, а также нацелено на нахождение новых схем лечения онкобольных.
— Удается ли найти такие «лазейки», где раковые клетки могут утратить устойчивость к лекарственным средствам?
— Да, удается. Когда находят первопричину злокачественных трансформаций в клетке, за счет чего она становится раковой, есть шанс разработки новой, эффективной схемы преодоления устойчивости раковых клеток к химиотерапии.
— Нет ли у вас ощущения, что эти поиски происходят в потемках, потому что мы мало что понимаем про рак?
— Конечно, в какой-то мере это так. Но современные молекулярно-биологические и генетические методы тем не менее помогают выявить компенсаторные механизмы, обусловливающие устойчивость раковой клетки к химиотерапевтическим воздействиям.
— Как думаете, удастся ли когда-нибудь понять механизмы, лежащие в основе превращения обычных клеток в раковые?
— Получить ответ на этот вопрос стремятся ученые во всем мире. Надеемся, что наука когда-нибудь решит эту насущную проблему.
— Какие планы у вашей лаборатории?
— В первую очередь, как я уже говорил, мы хотим найти компенсаторные механизмы, которые позволяют раковым клеткам быть устойчивыми к применяемым в настоящее время химиотерапевтическим препаратам. Лаборатория работает над этим день за днем, и мы верим в успех.
Тут вспоминается старая цитологическая байка. Ученый на каждой конференции рассказывал о тонкой структуре одного из сегментов дождевого червя — по сегменту в год. Докладчика однажды спросили: когда же вы наконец расскажете обо всех сегментах сразу? Он ответил: «Жизнь коротка, а червяк длинен».
— Вы хотите сказать, что рак сложен, а жизнь у нас короткая, чтобы его изучить?
— Да. Одной человеческой жизни не хватает, чтобы изучить все аспекты злокачественных перерождений клеток. Так что я с большой надеждой смотрю на своих молодых коллег в лаборатории, очень рад не только их научным результатам, но и хорошему творческому заделу, здоровой дружеской атмосфере.
— Как вам удалось создать такую атмосферу? Не у всех это получается.
— Не секрет, что во многих лабораториях бывают какие-то соперничающие группы. У нас этого нет. Несколько лет назад у нас работала девушка, и неплохо работала. Но вокруг нее все время возникали конфликты. И мы решили, что не будем предлагать ей остаться в коллективе. Только хорошая, доброжелательная атмосфера способствует успешной работе.
— Вы к ним строги?
— Я всегда стараюсь не натягивать вожжи, не строить по струнке. Если кто-то пришел позже на работу, не стану его ругать, потому что знаю: ему надо было дописать статью и он трудился ночью. Стараюсь поддерживать интересные инициативы молодых.
— Они часто приходят к вам с такими инициативами?
— Нередко. Так и должно быть. Иначе новые идеи не будут возникать. А ведь именно в этом смысл науки. Мы оставляем в лаборатории способных людей, которые хорошо себя проявили в исследованиях. Значит, надо поощрять их инициативы.
— А вас в свое время поддерживали?
— Да, по большей части, и не только здесь, в институте. Был также интересным и зарубежный опыт работы в Японии. Национальный раковый центр — это крупный исследовательский институт, и при нем большой госпиталь. Я изучал онкогены человека. Иногда получал опухолевые материалы пациентов, чтобы определить, какие онкогены у человека играли роль в возникновении конкретного заболевания. Параллельно по просьбе японских коллег я проводил анализ геномной ДНК японских макак. Это самый северный вид обезьян в мире. Японские биологи очень трепетно к ним относятся и всесторонне их изучают. В своих исследованиях я показал, что при гидролизе рестриктазой BamH1 геномной ДНК, выделенной из клеток японских макак, независимо от пола, возраста и состояния здоровья (нормальная или злокачественная ткань) животных всегда образуется фрагмент ДНК величиной около 260 пар оснований, названный BamH1. Мне казалось интересным проследить наличие такого фрагмента BamH1 у других приматов. Я поделился этим наблюдением со своими коллегами, и их это тоже заинтересовало. Но в Национальном раковом центре были только образцы тканей японских макак. А в Осаке есть научный центр, где содержатся обезьяны разных видов со всего мира.
И однажды заведующий отделом, куда я был командирован, известный японский ученый профессор Сумико Нишимура спросил у меня: «А что вы делаете в четверг? С утра меня не будет, но к вечеру я приеду. Пожалуйста, дождитесь меня».
Оказалось, что в четверг он съездил в Осаку в научный центр, который занимается приматами, и сумел привезти мне кучу материалов — ткани, взятые от разных обезьян. Среди них были и японские макаки, и азиатские, и даже человекообразные обезьяны — гориллы, орангутаны, шимпанзе…
— И что же оказалось в результате?
— Я обнаружил, что у разных видов макак и в Азии, и в Японии, и в Африке есть такой BamH1-фрагмент ДНК величиной в 260 пар оснований. Есть он и у обитающих в Африке павианов. А у других обезьян, живущих рядом с азиатскими макаками, такого фрагмента нет.
— А у человекообразных обезьян?
— У них этот фрагмент вообще невозможно было найти. Как, впрочем, и у людей. Таким образом, этот фрагмент ДНК BamH1 можно считать маркером эволюции. Он говорит о том, как происходил эволюционный процесс. Японские коллеги с большим энтузиазмом отнеслись к этому исследованию. А когда я вернулся в Москву, мне пришлось вплотную заняться раковой тематикой, и здесь знания, приобретенные в Японии, очень пригодились. Все это говорит о том, как важно быть внимательным к деталям и поддерживать в этом молодых ученых. Поэтому я своих учеников не муштрую, а стараюсь быть к ним бережным и внимательным. Считаю, что только такой подход может давать хорошие результаты.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ