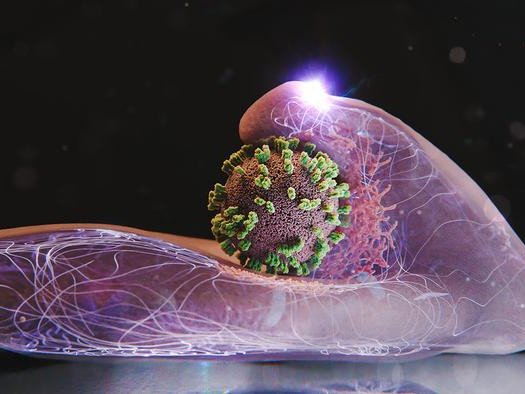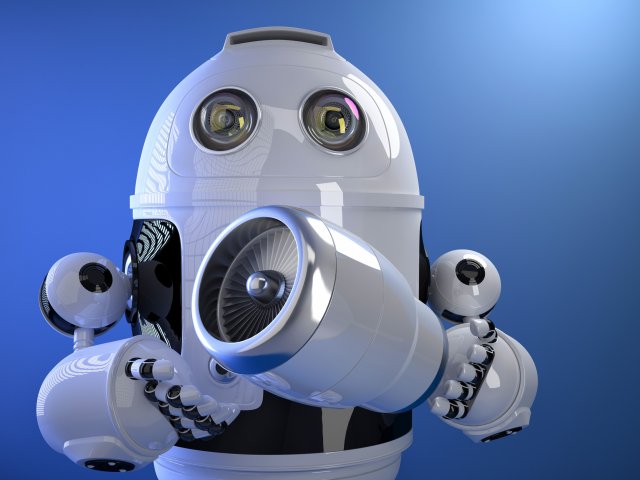— Александр Михайлович, в ХХ в. говорили, что точные науки — физика и математика — лидируют в этом мире. А в наше
время?
— Наверное, так же, хотя, конечно, в XXI в. много разговоров о том, что на первый план вышла новая царица наук — биология. Но, как сказал один наш мудрый академик, «в таком утверждении есть определенный смысл: XX в. был веком физики, но XXI в. тоже останется веком физики, однако предметом ее исследования будут живые системы». То есть важная
роль физики во «властвовании над миром» будет сохраняться, в том числе через познание законов функционирования живой природы. Таким образом у физики появляется дополнительный канал влияния на умы, помимо традиционных.
— А почему же вы не властвуете над властью?
— Отношения науки с властью разные. Они зависят от типа общества, в котором живет та или иная страна. Давайте взглянем на них глазами физика.
Физика — наука, основанная на модельном мышлении, на представлении сложного явления в максимально простой форме, позволяющей выделить наиболее значимые стороны. Попробуем, не конкретизируя детали, смоделировать типы взаимоотношений науки и власти. Возьмем два крайних типа — демократию и монархию. Что касается положения науки в обществе и отношения к ней, крайними типами могут служить такие определения: просвещенное общество и непросвещенное. Таким образом, у нашей модели есть четыре реализации: монархия просвещенная и непросвещенная, демократия просвещенная и непросвещенная. Давайте подумаем, в какой из организаций общества взаимоотношения науки с властью оптимальные и с точки зрения развития науки, и с точки зрения развития общества. Наверное, в идеале нам бы хотелось жить в обществе просвещенной демократии. И, наверное, такое состояние возможно только в экономически развитых странах, в которых поддержка и состояние науки объективно могут быть на высоком уровне, причем в ситуации интеллектуальной свободы, что тоже для развития науки крайне важно. Теперь зададимся вопросом: что лучше для науки — просвещенная монархия или просвещенная демократия? Если мы возьмем Средние века, когда о реальной демократии
разговора не было, наука же кое-где нормально и даже успешно по тем временам развивалась — а именно там, где монаршая власть благоволила наукам.
— Не стоит ходить в далекое прошлое. Отношения между Брежневым и Келдышем, Брежневым и Александровым могут быть
прекрасными примерами.
— Думаю, что советское время в контексте нашей простой модели можно без особой натяжки отнести к состоянию просвещенной монархии, подразумевая под ней неограниченную власть коммунистической партии. Отношение к науке было уважительным и партнерским — не только на уровне первых лиц, но и на других этажах партийной иерархии. Таким образом, в обеих крайних реализациях просвещенного общества, демократического и монархического, наука может успешно развиваться. Различия, безусловно, есть, но главное здесь — просвещенность и заказ принимающих решения на развитие науки и рост объема знаний.
Перейдем к двум оставшимся ситуациям: непросвещенной демократии и непросвещенной монархии. И то и другое плохо для страны и для науки. Когда мы с вами в 1990-е гг. свалились в непросвещенную демократию, плохо или хорошо было тогда науке? Очевидно, плохо, потому что финансирование резко упало, и поскольку уже была демократия, то и прозвучало: ищите, мол, свое финансирование сами. Именно в это время в академии появилось множество новых юридических лиц, за что ее спустя десяток лет стали упрекать. Но не надо забывать, что в девяностые это была форма выживания (не развития!),
когда крупные организации дробились на более мелкие, брали суверенитет, сколько могли. Они начинали вести более активную международную деятельность, искали заказчиков за рубежом и внутри страны и благодаря этому выживали. Время действительно было плохое, но вот то, что произошло дальше, в нулевых годах, заслуживает особого разговора.
— Почему?
— В стране начали появляться нефтяные деньги, и встал, хотя и не сразу, вопрос о поддержке науки, так как в процветающем капиталистическом мире, мире просвещенной демократии, наука — самая настоящая производительная сила. Про такую силу науки мы и в учебниках по научному коммунизму читали, но дожить до этого не смогли. Следовательно, в новой и разбогатевшей России надо науку ставить, развивать, чтобы она из своего полунищенского состояния превращалась в производительную силу, — так была поставлена задача. И это было правильно.
Но как это реализовать, когда страна начала жить в капиталистическом обществе? Это значит, что у государства, то есть в бюджете, стало меньше денег на ту сумму, которая ушла к инвесторам. Раньше у государства был весь бюджет страны и только оно было инвестором всего, а теперь государство только через налоги располагает необходимым ресурсом. Следовательно, науку должны финансировать и инвесторы, в том числе олигархи, к которым перетекли средства государства. Но что у нас получилось? Наука попала, как я говорю, в «долину смерти». Государство уже не могло финансировать ее в том объеме, как это делала просвещенная монархия советской власти. Это понятно, так как нынешнее наше государство — гораздо более бедное. А финансирование со стороны высокотехнологичной индустрии и вообще промышленных групп так и не началось, по крайней мере на сравнимом уровне. В результате наука оказалась в положении, когда одни уже не могут дать средства на ее содержание, а другие еще не могут.
— Или не хотят?
— Кто-то не хочет, кто-то не может. В стране сложились разные экономические элиты, и одна из них очень мощная — сырьевая. Мне кажется, она менее других заинтересована в науке. Почему? Потому что полезных ископаемых много в нашей стране, на наш (точнее, ее) век хватит. Чтобы купить новую буровую установку, быстрее и эффективнее качать, не надо содержать большую науку. В этом смысле сырьевая игла, на которой мы с вами сидим, служит плохую службу для нашей науки.
Недавно у нас была весьма показательная встреча с А.Л. Кудриным. С высоты своего теперешнего положения и задач, которые стоят по формулировке стратегии развития экономики страны, он попросил ответить на вопрос: почему у нас в стране наука никак не становится производительной силой инновационной экономики? Ясно, что если посмотреть на науку как на производительную силу, то она реальна только там, где есть мощная промышленность. Там индустрия начинает понимать, что она имеет прибыль только в том случае, если она содержит науку и наука дает отдачу в виде новых конкурентноспособных разработок. Если нет такого понимания, инвестор денег не даст. Становление индустрии хай-тека — очень сложный вопрос для нашей страны, потому что несутся мимо и вперед корейские, китайские, японские, европейские локомотивы. Они уже поняли, как делать новую индустрию, они уже почувствовали прибыль от быстрого внедрения научных результатов, у них уже есть инструменты, опыт для того, чтобы правильным образом раскручивать весь этот процесс. У нас
всего этого практически нет.
Вот на этом фоне опять и ставится классический вопрос: кто виноват? И сразу же находится ответ: конечно же наука! Мол, она
не владеет ситуацией, не обеспечивает технологические прорывы, не помогает создавать высокотехнологичную промышленность. Там наука прорывная, а здесь — только социальная обуза, непонятно даже, зачем она вообще нужна, поскольку можно купить любую технологию. Это типичный взгляд с сырьевой иглы.
— Но ведь академия наук должна была бить во все колокола о заблуждениях власти?
— Вы сейчас задаете очень болезненный вопрос. Вспомним его предысторию. В 2005 г. была принята Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации. Согласно ей, страна должна была за десять лет увеличить процент ВВП, который идет в науку, с 1,2 до 2,5, при этом 60–70% средств должны были приходить из инновационной экономики. Той самой экономики, которая, как полагалось, тоже почувствует нефтяные деньги и взрастет на них, то есть будет запущена цепочка положительной обратной связи в развитии науки и наукоемких секторов промышленности и бизнеса. И мы с большим энтузиазмом смотрели в будущее, так как перед нами были примеры Запада и Востока, где уже построен современный наукоемкий капитализм. Вообще, в нулевые годы Америка была для нас примером передовой страны и в экономике, и в науке, и в демократии. Одним из проявлений такого подражания было то, что в те годы научные деньги рекой полились в университеты, на уровне руководства страны был провозглашен лозунг: «Фундаментальная наука должна делаться в университетах». Но почему? А потому, что так устроено в Америке. Это сейчас вас с таким заявлением заклюют, скажут: «Какая Америка? У нас все должно быть свое, у нас свои традиции». Кстати, сейчас действительно идет возврат к тому, что не надо всю науку в университетах делать, а нужны большие институты. Мы с очевидностью возвращаемся в прошлое — и потому, прежде всего, что не смогли выполнить намеченную стратегию. На стадии успеха к прошлому не возвращаются. Десятилетняя волна нефтяных денег прошла, но после ее схода на российских берегах не видно ни инновационной наукоемкой экономики, ни инновационно ориентированной науки. Разве что отдельные малые островки. И в этом виновна, если уж судить такими категориями, не наука, а сама система экономического устройства, которая не дала достаточный импульс инновационной экономике и не запустила нужную цепь положительной обратной связи.
— К сожалению, слишком много планов, которые так помпезно провозглашались, не выполнены...
— В этом академия наук менее всего виновна. Мы же помним конец нулевых годов, когда провозглашались антиакадемические манифесты, их озвучивали С.М. Гуриев (Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Сергеем Маратовичем Гуриевым либо касается деятельности иностранного агента Сергея Маратовича Гуриева), Д.В. Ливанов, К.В. Северинов, М.С. Гельфанд и др. — мол, академия наук не то что не нужна, она мешает! Вспомним хотя бы печально знаменитые «Шесть мифов академии наук», где четко прописывался план действий по уничтожению РАН. А когда в 2012 г. Д.В. Ливанов стал министром науки, думаю,
подавляющему большинству ученых стало ясно, что он от власти получил мандат на уничтожение академии. Образно говоря,
она оказалась жертвой, в том числе и потому, что стали появляться деньги и академические институты задышали более вольготно. Стало ясно, что они выжили в очень сложное время первого десятилетия новой России, но вместо ожидаемого дальнейшего этапа роста получился в буквальном смысле этап утраты доверия.
— Но ведь стало намного легче?
— Безусловно. Но именно в это время РАН заняла неправильную позицию. Это была стратегия и тактика осажденной крепости. Ведь по-разному можно реагировать на то, когда на тебя нападают. В открытом, гражданском обществе, к которому мы стремимся, надо быть готовым к тому, чтобы бороться с конкурентами, — ведь науку могут делать в разных организациях. У нас есть академия наук, НИЦ «Курчатовский институт», Сколково, есть университеты. Ты же не один занимаешься наукой, а потому надо было адекватно к этому относиться. Не следовало постоянно говорить: «У нас все хорошо, и поэтому не трогайте нас!». Это было категорически неправильно: тактика осажденной крепости во многом повлияла на то, что саму крепость, то есть академию, оказалось легко взять. В конечном счете держать осаду можно поразному, и самая слабая позиция — пассивная.
— Теперь второй классический вопрос: а что делать?
— Надо начинать с достижения общего консенсуса — между властью, наукой и обществом — относительно оценки положения
с наукой в нашей стране. До сих пор приходится слышать с разных сторон: «Чего вы ноете? Да совсем не все так плохо у нас в стране с наукой! Смотрите, публикационная активность растет, есть фонды, которые поддерживают науку и ученых, чего вам еще надо?»
Действительно, может быть, мы с вами ошибаемся, говоря о «долине смерти», и все не так плохо? И нам докажут, что на самом деле все обстоит вполне хорошо?
— Ситуация ясна, и ее надо просто признать.
— Согласен, хотя признать и достичь консенсуса тут непросто: высокопоставленные люди, принимающие решения, с большим трудом признают их негативные последствия. Не буду приводить цифры в доказательство своей правоты, многим коллегам ситуация и так очевидна. Мы ездим по миру и четко представляем ситуацию. Есть два основных показателя уровня развития фундаментальной науки в стране: число приглашенных докладов и публикационная активность (вне зависимости от области науки). Прискорбно, но количество приглашенных докладов на крупных международных конференциях от России упало и продолжает снижаться даже в тех областях, где оно было традиционно весьма высоким. Я не хочу сказать, что там перестала звучать русская речь, но она стала еле слышной. А ведь еще в 1990-е гг. русский язык был вторым в научном мире.
Возьмем другой интегральный параметр — публикационную активность. В последнее время приходится слышать, что положительная тенденция налицо. На самом деле рост есть, но скорее формальный и даже отчасти искусственный. С одной стороны, научные фонды требуют, чтобы в качестве отчета по грантам ученые производили печатную продукцию, — значит, надо думать не о ее значимости, а о ее количестве. С другой стороны, квалификационные требования научных должностей напрямую завязаны на число публикаций и, по сути, ни на что другое — только на то, что легко считается.
Здесь то же самое: для формальной аттестации нужны пусть мелкие и в мало цитируемых журналах, но статьи. Прошу правильно понять: я не говорю сейчас обо всех ученых и о том, что ушли в прошлое традиции высокой требовательности к публикациям, которые всегда отличали сильные научные школы от разного рода других. Но тенденция очевидна: статей стало больше, а крупных, мирового уровня результатов — меньше. Более того: из-за падения рубля в два раза и за счет того, что все стали стремиться публиковаться прежде всего в российских журналах, мы оказались вообще вне конкуренции — мы производим печатной продукции в расчете на $1 в несколько раз больше, чем в любой другой стране, где есть наука. Поэтому и возникают утверждения, что «у нас все нормально, эффективность науки сумасшедшая».
Но если оценивать по гамбургскому счету, в ведущих международных журналах с наибольшим индексом цитируемости количество статей с российским авторством совсем невелико, можно сказать, пренебрежимо мало. И, как правило, это не первые, а пятые, десятые, двадцать пятые авторы. Например, физик-теоретик поехал к друзьям, месяц побыл там, что-то сделал, помог коллегам интерпретировать эксперимент или построить модель явления, они его взяли в соавторы, и мы гордимся: «У нас новая статья в Science появилась». У кого «у нас»? В реальности число российских публикаций, особенно с результатами экспериментов, сделанных в России, практически равно нулю. Русских фамилий в ведущих журналах немало, но работ из России практически нет. И это принципиальный момент, указывающий на реальное положение дел. Приведу такой факт. В последнее время я смотрю, как устроено государственное финансирование фундаментальной науки в разных странах. Возьмем две страны с приблизительно одинаковым населением — Японию (130 млн) и Россию (145 млн). Вот государственная научная корпорация — Институт физико-химических исследований (RIKEN), которая в этом году отмечает свое столетие. В ней 3 тыс. человек, включая ученых и технический персонал. Это пять или шесть институтов, разбросанных по Японии, которые ведут исследования в области физики, химии, в последнее время биологии. Наука в них полностью финансируется государством. Бюджет — $750 млн в год. Это больше половины финансирования из ФАНО всех академических институтов, в которых работают 125 тыс. человек. Итак, там 3 тыс., здесь 125 тыс., при этом объемы бюджета сравнимы по величине. Я не говорю про наши маленькие зарплаты, ученые в нашей стране не голодают. Но финансирование материальной базы науки, необходимого инструментария, у нас и там удельно в расчете на одного ученого различается в 100 раз! Как мы можем заниматься наукой, если инструментарий в России практически не обновляется? И в РАН все последние годы до реформы, и в ФАНО сейчас практически нет такой статьи — обновление материальной базы. Что можно сделать с инструментарием, которому 30 лет, когда есть гораздо более передовые инструменты, позволяющие проводить эксперименты на принципиально недоступном для нас уровне? Разве вы можете обнаружить и исследовать процессы, которые длятся миллисекунды, с помощью ваших часов, на которых бегают только минутная и секундная стрелки?
— Получается, мы финансируем чиновников вместо того, чтобы финансировать науку — покупать приборы и аппаратуру?
— Не будем обсуждать эту тему: ФАНО наш учредитель, а я как директор института не вправе утверждать, что они едят наши
деньги. Тем более у нас хорошие рабочие отношения с сотрудниками ФАНО, мы пытаемся помочь друг другу, поскольку, как мне кажется, у них есть понимание ситуации в этом вопросе.
Итак, констатируем, что положение с наукой плохое. Это первое. Второе — констатируем и говорим прямо, что действительно наломали дров с нашими реформами, с нашими векторами, как я их называю. Мы должны понять и принять, что выход из «долины смерти» не может быть в настоящее время осуществлен за счет того, что вдруг станет развиваться и преуспевать наша инновационная экономика и что именно она подтолкнет науку. Значит, должен быть ощутимый толчок со стороны государства. Если мы хотим раскрутить наукоемкую экономику, если хотим, чтобы наука давала новые идеи и технологии,
надо налог на науку брать с наших сырьевых госкорпораций. Думаю, государство это может сделать.
— А дальше?
— Будем искать траекторию выхода. Она тоже должна быть консенсусом. Таких траекторий очень мало. Мы слишком сильно отстали от локомотива прогресса, который уже унесся в будущее без нас. Должно быть предпринято что-то экстраординарное.
— Что именно?
— Мои коллеги в Российском федеральном ядерном центре в Сарове говорят: «Отечество в опасности, значит, нужна научная мобилизация, надо жестко ставить суперважные, суперкрупные задачи. Пусть в данный момент, может быть, и в ущерб фундаментальной науке, но это потом окупится многократно. Страна должна, как в военное время, решить нескольких очень важных задач, которые она не может не решить». В этом утверждении есть что-то разумное... Впервые этот лозунг прозвучал, когда враг оккупировал часть страны. Тогда все было понятно. Но и сейчас нас с вами завоевывают, только по-другому — высокими технологиями. И уже почти завоевали. Мы с вами на каких машинах ездим? Какими телефонами пользуемся?
Интернет у нас откуда? Культура потребления чья?
— Я считаю, в 1990-е гг. мы совершили крупную ошибку, когда практически вывели оборонную тематику из академии наук.
— Она как бы сама вывелась из-за разных политических доктрин. Считалось, что врагов у нас нет и деньги на безопасность, оборону тратить не надо. Кстати, в свое время была обстоятельно подготовлена программа фундаментальных, поисковых и прогнозных исследований в интересах обороны и безопасности, и уже лет восемь, по-моему, мы пытаемся эту программу принять. Она находит поддержку фактически везде, на всех уровнях, но есть непреодолимое, как видно, препятствие — финансовые и экономические ведомства.
— Что вас подтолкнуло стать кандидатом в президенты Российской академии наук?
— Март 2017 г. Срыв выборов, причем, как убеждены многие, неслучайный и спланированный. Команда физиков, которую объединяет отделение физических наук, считает: то, что произошло, — это полшага к ликвидации академии наук. Оставшиеся полшага могут быть пройдены в сентябре. И это заставило нас по-другому посмотреть на нашу академическую жизнь.
Во-первых, возникло сильное беспокойство по поводу того, что, если в сентябре выборы вновь не состоятся, будет принято решение, которое может поставить крест на академии наук как научной организации. Этого ни в коем случае нельзя допустить. И не потому, что за этим стоит потеря академических стипендий и каких-то материальных благ. Страны должны качественно характеризоваться неким суммарным интеллектом проживающих в них людей. У нас он сильно сжался. Утечка мозгов, причем не только в смысле отъезда ученых за рубеж, но и вследствие потери квалификации научно-технических кадров, их массового ухода из профессии. Далее, кадры следующего поколения стали значительно хуже готовиться в университетах, школах. Сфера образования, от среднего до высшего, превратилась в сферу услуг — образовательных, и такой термин никого уже не коробит.
Кстати, я очень переживаю, когда слышу от руководителей страны, что мы не боимся утечки мозгов. Этого надо бояться, и не просто бояться, но делать все для того, чтобы минимизировать такую утечку. Если на академии наук будет поставлен крест, с интеллектом страны произойдут непоправимые изменения. Тогда и в будущем мы никогда не встанем на эту траекторию роста. Мы даже не сможем понять, в чем заключаются те или иные научные свершения, наш уровень как державы деградирует, и довольно быстро, до уровня пользователей, то есть потребителей тех наукоемких благ, которые придумывают и делают другие страны.
Во-вторых, предложение участвовать в выборах президента РАН мне поступило от отделения физических наук. Я воспринял это как поручение коллег, от которого у меня нет права отказаться. Тем более с пониманием того, что физики в академии наук традиционно играют очень заметную роль, к их мнению многие прислушиваются, что еще сильнее поднимает уровень ответственности, связанной с этим предложением моих ближайших коллег.
— Расскажите о себе. Как вы начинали, почему выбрали физику, как встали во главе одного из крупнейших институтов в стране?
— Мой прадед по материнской линии — настоятель церкви в селе Бутурлине Нижегородской губернии (сейчас это районный центр). Мой дед окончил перед Октябрьской революцией духовную семинарию, собираясь сменить моего прадеда. Окончил с отличием. Грянула революция. Он всю жизнь после этого проработал учителем математики в школе в родном селе, никогда не вспоминая о семинарии. Даже я не знал многого о его судьбе, так он боялся за свое прошлое. В советское время в церкви был, как водится, сельский клуб. Потом опять была восстановлена церковь. Теперь, приезжая на свою малую родину, бывает, принимаю участие в дискуссиях о религии и науке, так как имею, получается, прямое отношение к тому и другому.
— И что одерживает верх?
— Мы с вами язычники, потому что наш бог — природа. И мы с вами совершенно точно знаем, что есть познанное и пока не познанное, горизонт которого не приближается никогда. Пока не познанное — это во многом предмет веры и теоретических концепций. Я считаю, что у ученых, особенно у физиков, есть свой бог — это природа с ее бесконечными тайнами. И мы познаем, шаг за шагом и по самым различным направлениям, этого нашего бесконечного бога — природу. Счастье этого познания и одерживает верх.
— Вы окончили Нижегородский университет и...
— В моей трудовой книжке одна запись. С 1 сентября 1977 г. и по настоящий день я сотрудник Института прикладной физики.
— Постоянство — главный признак любви?
— Конечно. Вновь возвращаюсь в 1990-е гг. Наш институт оказался в оптимальном положении, он сохранился, не очень изменившись. Есть целый комплекс причин. Одна из них — то, что мы были организованы в 1977 г. И успели стать крупным и успешным институтом еще тогда, когда страна не скупилась на развитие науки. Помню, как была создана правительственная комиссия по высокотемпературной сверхпроводимости во главе с председателем Совета Министров СССР Н.И. Рыжковым. Председатель правительства возглавил комиссию, которая должна как можно быстрее дать выход в практику открытия, которое произошло всего год назад. Сейчас такое трудно представить, хотя за последние два десятка лет были научные прорывы сравнимых масштабов и значимости, а тогда это было нормальным делом. Высокая комиссия постановила построить несколько институтов, оснастить их и дать им соответствующие задания. И все это было сделано. Например, Институт физики микроструктур РАН, который сейчас вошел в состав нашего федерального центра, был организован и построен как раз в те годы.
К началу другой жизни мы успели нарастить научные мускулы. В ИПФ РАН за эти годы пришли сотни мотивированных молодых людей — лучшие выпускники университетов. Что важно — все они, только начинающие свой путь в науке, видели рядом тех, на кого можно было равняться, и работали с ними бок о бок. И над ними и рядом с ними — великий ученый и великий директор А.В. Гапонов-Грехов, который старше их лет на 15, — правильный возрастной квант в воспитании учеников в науке. За первые десять лет институт стал ведущим академическим институтом страны.
— Вы оказались в нужное время в нужном месте?
— Нам повезло, потому что Горький, как известно, был закрытым городом. Было относительно мало контактов с заграницей. А потому, когда люди в 1990-е гг. потоком поехали на Запад, у нас такого существенного оттока не было. А город ведь с очень хорошей прослойкой научно-технической интеллигенции, потому что военный арсенал страны — самолеты, танки, подводные лодки, радиолокаторы, электроника и т.д. — делался у нас. В девяностые, когда открылись границы и мир стал гораздо доступнее, особенно для ученых, А.В. Гапонов-Грехов сказал: «Вы можете поступать, как считаете нужным. Но я здесь, здесь и навсегда». Таких директоров не бросают.
— Да и проблематика у вас широкая?
— У нас мультидисциплинарный институт. Казалось бы, есть некая разбросанность, но она скрепляется единой научной культурой благодаря тому, что мы все — представители радиофизической школы. Все волновые явления в природе — это наша область физики. У нас есть единый подход в познании природы — через общие законы физики колебаний и волн в разных приложениях: оптика, СВЧ-электроника, волны в океане, волны в твердом теле, волны и колебания в механизмах, конструкциях, волны в атмосфере, гравитационные волны.
Мультидисциплинарность также очень важна, когда вы попадаете в экономически сложное время. В нашем институте сформировался широкий и подвижный фронт исследований, мы отзывчивы к внешним вызовам, и, соответственно, сформировалась «пестрая» экономика. И это очень важно. 25% у нас бюджет, 25% — различные гранты, 50% — хоздоговорные работы. Из них половина — гособоронзаказ. Это совершенно разные типы работ, но, умело применяя достижения фундаментальной науки в прикладных исследованиях, мы всегда оказываемся интересными заказчику. Наш фундаментальный задел постоянно обновляется и оказывается перспективным для следующих приложений. С другой стороны, мы не можем заниматься только фундаментальными вещами, так как в стратегии развития страны всегда были и есть вызовы прикладного характера, на которые мы должны отвечать. Поэтому соблюдение баланса фундаментальных и прикладных исследований внутри одного института очень важно. Такой баланс, подчеркну, был изначально одним из краеугольных камней в здании института, это своего рода научное кредо ИПФ РАН.
— Вы хотите сказать, что модель работы вашего института подходит и для всей академии наук?
— В каком-то смысле да. И в смысле множественности источников поддержки исследований, и в смысле сочетания и взаимодействия фундаментальных и прикладных работ, и в смысле особого внимания к оборонной тематике. Я не могу говорить, что наша модель просто переписывается или масштабируется, но по принципам действия подходит для всей
академии. И главное звено здесь — мультидисциплинарность. Во взаимодействии и балансе фундаментальных и прикладных исследований крайне важна ориентация на очень крупные проекты, способные «потащить» за собой новые области исследований и разработок.
Сейчас всего этого практически нет, но это должно вернуться в академию наук. Когда вернется, когда академия вновь ощутит себя ответственной за такие проекты в интересах инновационного развития страны, это и будет означать выход из «долины смерти» туда, куда и стремились искатели лучшей жизни для обретения смысла своего существования и реализации своего предназначения.
Беседовал Владимир Губарев
Александр Сергеев, президент РАН