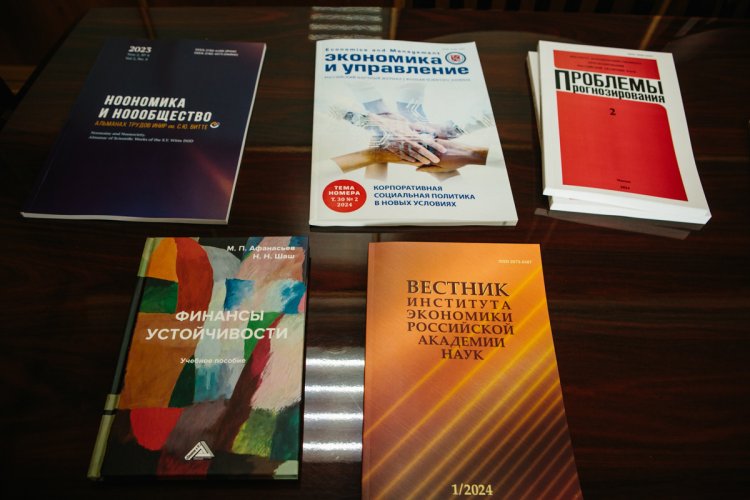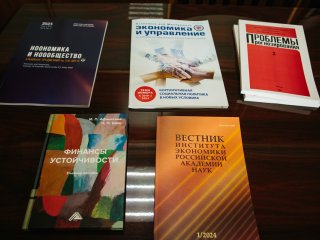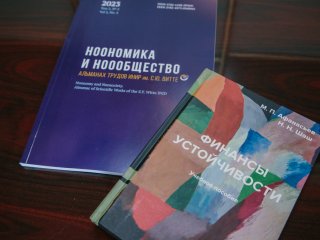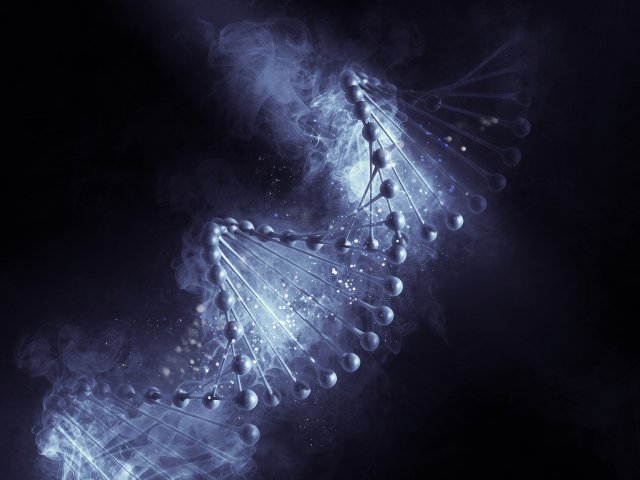Климатическая повестка, сокращение выбросов парниковых газов и удержание глобальной температуры ― палка о двух концах. Причем с обеих сторон позитивных, если сбалансировано подходить к решению задач. Так можно и стимулировать экономику, и действительно защитить планету. Об этом говорим в интервью с Александром Александровичем Шировым.
Александр Александрович Широв
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Александр Александрович Широв ― член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук. Окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «Мировая экономика». Специалист в области макроэкономического анализа и прогнозирования, анализа межотраслевых связей, обоснования мероприятий в области экономической политики, отраслевого моделирования и прогнозирования, анализа и прогнозирование внешнеэкономических связей.
― С одной стороны, действительно необходимо сокращать антропогенные выбросы парниковых газов и удерживать глобальное потепление. Но насколько при этом климатическая повестка способна стимулировать развитие экономики как России, так и других стран?
― Начать стоит с того, что климатическая политика стала настолько глобальным мировым направлением прежде всего из-за сильного влияния на экономику. Значительное количество стран, где сформированы развитые экономики, дошли до определенных пределов насыщения своих потребностей как в инфраструктуре, так и в потреблении населения. Чтобы они могли нормально функционировать и обеспечивать высокие социальные стандарты, им требуются дополнительные доходы, которые могут возникнуть только в условиях сдвигов в структуре производства и цен. На фоне развития новых отраслей в экономике возникает дополнительный спрос и увеличиваются темпы роста экономики. Именно климатическая повестка приводит к таким структурным изменениям. Как следствие, мы видим повышенное внимание к ней со стороны тех стран, которые обладают соответствующими технологиями.
В орбиту этого интереса постепенно входят не только крупные, развитые, но и развивающиеся экономики, например экономика Китая. Поэтому сегодня мы находимся в стадии, когда климатическая повестка во многом начинает замещать традиционные торговые переговоры, связанные с изменением торговых пошлин.
― То есть сам климат, удержание роста глобальной температуры и необходимость снижения выбросов парниковых газов в атмосферу вторичны?
― Потепление, безусловно, существует, и глобальные цели по снижению антропогенного воздействия на климат связаны с необходимостью защищать планету. Человечество влияет на климатические изменения, хотя вопрос о том, насколько велик его вклад в формирование потепления, остается дискуссионным.
Климатическая повестка в этом контексте уникальна. С одной стороны, она позволяет снизить негативное воздействие на климат, а с другой ― ряд стран способны таким образом одновременно решить экономические проблемы. Задача России в том, чтобы не просто соблюдать обязательства по снижению выбросов парниковых газов, но и формировать свою климатическую повестку так, чтобы это вносило дополнительный вклад в формирование экономической динамики, приводило бы к позитивным для экономики страны структурным сдвигам, прежде всего модернизации экономики и промышленности, а также приносило соответствующие дополнительные доходы. Это непростая задача.
― То есть Россия входит в число стран, наиболее заинтересованных в таком направлении развития?
― Российская экономика ― пятая-шестая в мире по объему валового внутреннего продукта, измеренного по паритету покупательной способности. И, разумеется, глобальные процессы могут влиять на Россию и позитивно, и негативно. Поэтому Россия как один из крупнейших игроков способна выстраивать собственную политику и определенным образом внедрять ее в глобальную повестку.
Если мы начнем пассивно наблюдать за формированием глобальной климатической политики, то проиграем. Страны, заинтересованные в получении доходов от этой повестки, сформируют ее так, чтобы она была выгодна исключительно для них. Мы должны оценивать глобальные решения со всех сторон, уметь считать их последствия и выстраивать собственную политику. В последние годы в этом направлении сделаны серьезные шаги.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
― Понятно, что в ближайшие десятилетия наша цивилизация не сможет отказаться от углеводородной энергетики. Но тем не менее глобальная климатическая политика повлияет на экспорт нефти и газа из России?
― Энергетический баланс в ближайшие 30 лет с высокой долей вероятности будет определяться углеводородами. Однако будут меняться структура генерации энергии и конфигурация этого баланса.
Наиболее уязвимым с точки зрения возможного снижения спроса источником энергии остается уголь, несмотря на современные технологии его сжигания с меньшим уровнем выбросов парниковых газов. Следом идут нефтепродукты, и замыкает этот список природный газ ― наименее «грязное» в плане выбросов СО₂ топливо.
Надо понимать, что как минимум в ближайшие два десятилетия и уголь, и нефть, и газ останутся источником доходов для нашей экономики. Во-первых, даже в случае начала снижения мирового спроса мы какое-то время будем получать доходы за счет более высокой конкурентоспособности наших энергоресурсов, а во-вторых, энергопереход еще не наступил. По нашим оценкам, устойчивое снижение спроса на углеводороды возможно за пределами 2035 г. Это значит, что все это время мы будем получать доходы от экспорта ресурсов, и вопрос лишь в том, насколько эффективно они будут использованы, в том числе на цели модернизации нашей экономики.
― Существует ли дорожная карта модернизации экономики, определены ли необходимые технологии и исследования, которые позволят не отстать от других стран?
― В России уже выработан набор документов, позволяющий эффективно управлять климатической повесткой. Прежде всего, это Стратегия социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов, на период до 2050 г. Есть климатическая доктрина, соответствующие указы президента РФ В.В. Путина и оперативный план по реализации стратегии низкоуглеродного развития. Все это создает каркас для принятия эффективных решений в области климатического регулирования.
Но для того чтобы реализовать стратегию, требуется соответствующее аналитическое сопровождение. Для этого правительство сформировало и финансирует важнейший инновационный проект государственного значения (ВИП ГЗ) по созданию системы мониторинга климатически активных веществ. Этот проект реализуется примерно 50 различными институтами Российской академии наук и Росгидромета, университетами. Его задача в том, чтобы со всех сторон обеспечить процесс выработки решений в области климатической политики: и со стороны экономики, и со стороны экосистем, и со стороны мониторинга глобального изменения климата. Система позволит повысить качество мер по декарбонизации и связать их с решениями, принимаемыми не только в области климата, но и по развитию всей российской экономики.
ВИП ГЗ длится третий год, и уже есть значительные результаты. Теперь мы понимаем, как распределяются возможные решения по снижению выброса парниковых газов с точки зрения их экономической эффективности. Есть простые решения, они относительно дешевы. Есть решения сложные, которые, быть может, и способны быстро сократить выбросы, но и стоят они дорого, а в итоге за них придется платить нашей экономике и населению повышением тарифов на электроэнергию, ростом цен на другие товары и услуги. Одновременно ученые, занимающиеся экосистемами, обеспечили актуализацию данных о поглощающей способности российских лесов. Это стало возможно в том числе благодаря данным дистанционного зондирования Земли и анализу спутниковых снимков.
Задача в том, чтобы из большого набора возможных подходов к декарбонизации российской экономики выбрать наиболее сбалансированные. По отдельным элементам мы пытаемся создать в России систему научно обоснованного анализа решений в области достижения углеродной нейтральности, которая была бы одной из лучших в мире. Пожалуй, ни у одной страны нет подобной системы; надо понимать, что никогда раньше, если не считать пандемию COVID-19, в гражданском секторе науки не объединялись 50 институтов для решения одной задачи. В рамках этого проекта мы не только общаемся между собой как ученые с учеными, но и еженедельно обсуждаем вопросы с правительством на уровне вице-премьеров, министров и их заместителей. Это та обратная связь, которой нам так не хватало в гражданской науке в последние два десятилетия.
― Насколько решения, которые принимаются в области формирования эффективной климатической политики, соотносятся с другими направлениями нашей экономики? Например, с той же стратегией научно-технологического развития?
― Что для России политика декарбонизации? Прежде всего, это политика повышения эффективности российской экономики, потому что бóльшая часть инвестиций в промышленности, транспортной и других сферах по определению снижают выбросы парниковых газов. Новое жилье соответствует новым классам энергоэффективности. При модернизации машин и оборудования также повышается их энергоэффективность и снижается потребление ресурсов. Это переход к более бережливому производству. Все, что в ежедневном режиме делают российские фирмы, компании, заводы, работает на снижение выброса парниковых газов.
Почему-то часть экспертного сообщества разделяет политику декарбонизации и политику модернизации экономики. Но на самом деле 90% снижения выбросов парниковых газов связаны не со специализированными действиями, а именно с развитием экономики: мы получаем новый потенциал экономического роста и одновременно с этим снижаем углеродный след.
Безусловно, отдельные специализированные мероприятия нужны и именно для этого принимается оперативный план по реализации стратегии низкоуглеродного развития. Важнейшее направление здесь ― структура генерации электроэнергии, топливно-энергетический комплекс. Нужно модернизировать текущие блоки, работающие на угле и на газе. Требуется увеличение доли атомной электроэнергетики. Мы должны наращивать уровень возобновляемых источников энергии. Второй момент ― это фугитивные выбросы и деятельность в области хранения и транспортировки газа и нефти по трубопроводам. Третье ― управление отходами. В стране реализуется крупный проект по эффективному обращению с отходами: он направлен на повышение качества жизни, сокращение количества свалок, но одновременно и работает на цели по снижению выбросов парниковых газов.
Принимая такие меры, требуется понимать, как решения впоследствии повлияют на тарифы на электричество, на вывоз мусора, сопутствующие товары и услуги. Если действовать агрессивно с точки зрения снижения выбросов парниковых газов, мы можем навредить и экономике страны, и населению. Например, можно массово вводить солнечные или ветряные электростанции, которые с позиции снижения одной тонны выбросов СО₂ значительно дороже, чем модернизация традиционной энергетики. И это сразу отразится на тарифах, иначе быть не может. Поэтому, смотря на наши возможности, мы должны анализировать и ограничения.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
― Расскажите о расчетах, которые провели ученые Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, и о соответствующих выводах. Какой процент ВВП планируется вкладывать в мероприятия по декарбонизации российской экономики?
― Первый вывод, следующий из наших расчетов, состоит в том, что инерционный сценарий невозможен. Если вообще не обращать внимания на декарбонизацию, то мы и увеличим количество выбросов парниковых газов, и получим более низкие темпы роста ВВП за счет как более низких темпов модернизации экономики, так и внешнеэкономических ограничений.
Затем мы рассматриваем сценарии, в которых российская экономика тратит на декарбонизацию примерно 2% или 3% ВВП. Расчеты показывают, что, если вкладывать 2% и использовать наиболее эффективные и наименее дорогие способы снижения выбросов, вполне реалистичными становятся темпы экономического роста в 3% и достижение к 2060 г. углеродной нейтральности. Если склоняться к более агрессивным действиям и вкладывать в декарбонизацию 3% ВВП, то потери в терминах темпов экономического роста могут достигать однопроцентного пункта. А это на горизонте в 30 лет — колоссальные деньги. То есть такой сценарий для нас тоже неприемлем.
Казалось бы, разница между сценариями — всего в однопроцентный пункт, но с точки зрения качества это огромная разница. Из стадии более эффективных решений мы можем провалиться в стадию решений, наносящих ущерб потенциальному росту российской экономики.
Многие говорят, что через десять лет капиталоемкость возобновляемых источников энергии сильно понизится. Пока этого не происходит, но за ситуацией необходимо следить, и именно для этого существует оперплан по реализации стратегии низкоуглеродного развития. Важно оценивать, в каком направлении развиваются те или иные технологии. Например, можно представить, что когда-нибудь станут эффективными технологии накопления энергии: это значительно снизит капиталоемкость ветряных или солнечных электростанций. То есть процесс прогнозирования декарбонизации ― это задача не просто экономического, а именно научно-технологического прогнозирования. Мы постоянно обмениваемся информацией с физиками, химиками, специалистами, занимающимися экосистемами, и на основе этой информации можем делать экономические расчеты. Экономисты зачастую ограничены в понимании происходящего. Например, мы никогда не сможем эффективно оценить поглощающую способность российских лесов, для этого требуются спутниковые снимки, полевые работы и масса других специализированных исследований, которыми как раз занимаются наши коллеги из институтов Российской академии наук и Росгидромета.
― Как на климатическую политику России повлияли внешние экономические ограничения?
― Как я сказал, есть прямая связь между инвестициями и декарбонизацией. России закрыли доступ к значительной части технологий в самых различных секторах экономики. Это значит, что правительства западных стран, принявших санкции, препятствуют этими решениями процессу декарбонизации России, так как отсутствие доступа к наиболее эффективным технологиям в энергетике, машиностроении, химии, добыче полезных ископаемых, конечно, нас сдерживает. Причем не просто тормозит развитие экономики России, а препятствует решению глобальной задачи по сокращению выбросов парниковых газов. Это важно понимать.
Поэтому если на международных площадках к нам будут претензии в этой области, то можно резонно заметить, что именно бывшие западные партнеры привели к такой ситуации, не разделяя ограничения на гражданские, военные и переходные технологии. Закрыто все, и это, безусловно, влияет на достижение Россией углеродной нейтральности.
Но задачу дефицита технологий нам в любом случае придется решать с помощью дружественных стран или самостоятельно. А значит, потребуется увеличивать затраты на исследования и разработки, потому что конкуренция, которую мы сейчас испытываем, требует обладания наиболее важными критическими технологиями. В противном случае эффективность нашей экономики будет не так высока.
В первую очередь, это задачи энергетики, металлургической и химической промышленности, машиностроения. С одной стороны, это наиболее энергоемкие секторы, которые при внедрении новых технологий особенно сильно влияют на выбросы парниковых газов. С другой стороны, повторюсь, развивать эти отрасли необходимо не только для стабилизации климатической ситуации, но и для обеспечения устойчивости нашей экономики в долгосрочной перспективе. Этим и хороша климатическая политика: она позволяет достигать и глобальных, и национальных целей. А задача российского общества ― сделать так, чтобы эти задачи решались наиболее эффективным способом.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ