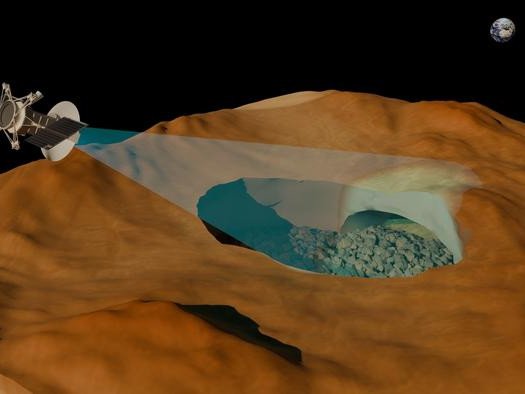Чем интересен микромир? Каким образом его изучение помогает бороться с тяжелыми инфекциями? Какие здесь имеются успехи и проблемы? Почему знание микромира сегодня особенно важно? Об этом рассказывает член-корреспондент РАН Татьяна Валерьевна Припутневич, директор Института микробиологии, антимикробной терапии и эпидемиологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Кулакова Минздрава России, заведующая кафедрой медицинской микробиологии им. З.В. Ермольевой РМАНПО, главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава России.
Татьяна Валерьевна Припутневич. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
Татьяна Валерьевна Припутневич — доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН. Научная деятельность посвящена актуальным вопросам инфекционной патологии в акушерстве, гинекологии и перинатологии, усовершенствованию микробиологической диагностики инфекций, передаваемых половым путем, изучению этиологической структуры инфекционно-воспалительных заболеваний, механизмов антибиотикорезистентности, решению актуальных вопросов рациональной фармакотерапии. Среди научных интересов – внедрение маркеров раннего возникновения инфекционно-воспалительных заболеваний у женщин и новорожденных с использованием протеометрических и молекулярно-генетических методов.
— Почему именно это направление научной деятельности вас заинтересовало?
— Отчасти это произошло случайно, хотя я убеждена, что случайностей в жизни не бывает. Я приехала с Дальнего Востока и поступила в ординатуру в Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический институт. Мечтала стать врачом-дерматовенерологом и серьезно увлеклась инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП). Как одному из лучших ординаторов мне дали возможность остаться работать в ЦНИКВИ, что тогда было почти невозможно, и предложили на выбор три вакансии, одна из которых — младший научный сотрудник микробиологической лаборатории. Так как я уже во время ординатуры увлеклась гонококковой инфекцией, то выбор пал на микробиологическую лабораторию. Мне было интересно изучать микроорганизмы, вызывающие ИППП. И раз уж я занимаюсь гонококковой инфекцией, хотелось глубже понять, что же это за микроорганизм, который вызывает такую инфекцию.
— Что же в них такого увлекательного?
— В тот момент начался бум вокруг понятия «антимикробная резистентность», и как раз именно гонококк оказался среди тех самых микроорганизмов, которые научились вырабатывать устойчивость к антимикробным препаратам. Кроме того, гонококк попал в список ВОЗ приоритетных микроорганизмов. Так я и начала работу над своей кандидатской диссертацией, и к окончанию ординатуры у меня уже был опыт работы с пациентами и набран материал.
— Вы нашли способы побеждать эту инфекцию?
— Значительного прогресса мы добились благодаря федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями». В соответствии с этой программой была налажена диагностика по всей стране, усилен контроль над распространением заболеваний. Современные показатели заметно отличаются от тех, что я наблюдала в начале карьеры, в этом есть и мой вклад. Стоит отметить, что в советское время подобные инфекции лечили по-другому.
— Что же изменилось в подходах к лечению?
— Тогда каждого человека с инфекциями, передаваемыми половым путем, принудительно закрывали в специализированных стационарах. Сейчас мы этого не делаем. К тому же сегодня развиты частные клиники и анонимное лечение. Федеральная программа позволила повысить уровень специалистов-дерматовенерологов и врачей, занимающихся микробиологической диагностикой. Благодаря этому сегодня Россия не входит в число стран с высокой заболеваемостью устойчивым гонококком. У нас есть механизмы, позволяющие сдерживать рост резистентности, который наблюдается, например, в Китае. А надо помнить: гонококк — это не простой микроорганизм для рутинной диагностики. Обычному врачу бывает сложно не только его выявить, но и провести весь комплекс необходимых тестов на чувствительность к антибиотикам, чтобы определить оптимальную схему лечения.
— Уже много лет вы работаете в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Кулакова. Сначала руководили лабораторией, потом — отделом, а сейчас вы — директор Института микробиологии, антимикробной терапии и эпидемиологии. Чем вы там занимаетесь?
— Судьба привела меня в смежную область — гинекологию. Многие аспекты оказались близки: инфекции репродуктивного тракта тесно связаны с дерматовенерологией. Кстати, всегда стремились объединить дерматовенерологов, урологов и акушеров-гинекологов. Сейчас нам это тоже удается, по крайней мере клинические рекомендации создаются силами объединенных профессиональных сообществ. Однако если гинекологические и венерические инфекции имеют общую природу, то акушерские инфекции — это особая сфера. И чтобы понять, как лечить эти инфекции, я была вынуждена погрузиться в мир других микроорганизмов и иных принципов микробиологии.
Довольно скоро я поняла, что усилиями одних микробиологов проблему не решить. Особенно это касается госпитальных инфекций в родильных домах и перинатальных центрах, где они — неизбежная реальность. Тогда пришлось внедрять комплексные принципы адекватной профилактики, диагностики и лечения. Для этого требовались специалисты, способные оперативно консультировать клиницистов, особенно в случаях инфекций у новорожденных или при акушерских осложнениях. Так, в 2012 г. в нашу структуру вошли первые клинические фармакологи, что позволило эффективнее решать вопросы терапии. Пришлось включать иные принципы профилактики, «быстрой» микробиологии, своевременного реагирования на эпидемиологические ситуации. И в 2014 г. был создан отдел микробиологии, клинической фармакологии и эпидемиологии, а сейчас мы уже целый институт.
— А чем лечить? Теми же антибиотиками?
— Да, но подход должен быть принципиально иным, особенно при инфекциях, вызванных устойчивыми микроорганизмами. Только клинический фармаколог может определить оптимальную схему: с какими препаратами комбинировать, когда корректировать дозу или кратность введения, а когда отказаться от определенного антибиотика даже при наличии чувствительности к нему. Дополнительная сложность в том, что пациенты — дети. Практически все антимикробные препараты у новорожденных применяются офлейбл (вне рамок официальной инструкции), и их назначение требует решения консилиума. Поэтому сегодня ни один перинатальный центр не должен функционировать без клинических фармакологов.
— А какой должна быть профилактика, чтобы не допустить подобного рода осложнений?
— Прежде всего — неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Безусловно, обязательны использование средств индивидуальной защиты и соблюдение правильной хирургической техники, рациональная антибиотикопрофилактика — ее применение должно регламентироваться четкими протоколами в каждом стационаре, а не быть повсеместным. Это противоэпидемиологические мероприятия, когда мы обязаны изолировать пациентов либо переводить их в соответствующие боксы. Если мы знаем, что в этой палате находятся пациенты, которые колонизированы устойчивыми штаммами микроорганизмов, то она должна быть закрыта для новых поступлений. Есть много и других принципов, я обозначила лишь самые «верхушки»; по сути дела, это целая наука. Любые случаи внутрибольничных инфекций должны детально разбираться на профильных комиссиях. Проблемы такого масштаба не под силу решить одному эпидемиологу или фармакологу, или микробиологу; необходима поддержка администрации — активное участие главного врача или его заместителя. В нашем центре эта система отлажена и работает эффективно. И мы внедряем эту модель в перинатальные центры по всей стране; уже лишь в немногих из них отсутствуют клинические фармакологи и тем более эпидемиологи.
— Чтобы мы поняли, о чем идет речь, приведите какие-то конкретные примеры, когда вам удалось помочь женщине или ребенку в тяжелом состоянии.
— Таких случаев множество, я часто делюсь ими в профессиональном сообществе. Мы — флагманский центр, главный в стране по лечению беременных и новорожденных. Когда в регионах возникают сложные случаи, например послеродовой сепсис, вызванный устойчивыми микроорганизмами, и местные специалисты не справляются, тяжелых пациенток переводят к нам. Мы используем самые современные и быстрые методы диагностики. В Центре Кулакова диагностическая система организована так, что в течение двух-трех часов клиницисты получают информацию о видовом составе микроорганизмов у поступившей пациентки. ВОЗ выделяет группу эскейп-патогенов, микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью. ESKAPE — это акроним из латинских названий этих шести бактерий: устойчивый энтерококк, золотистый стафилококк, клебсиелла пневмонии, ацинетобактер, синегнойная палочка и энтеробактер. Иногда у одной пациентки выявляются все представители этой группы. Представьте, какая задача стоит перед реаниматологами. К сожалению, такие случаи не редкость. Исход во многом зависит от микробиологов, которые должны максимально быстро провести исследования, и клинических фармакологов, которые должны подобрать эффективные комбинации препаратов. Крайне важно при этом учитывать общий соматический статус пациентки, чтобы не усугубить его токсичными препаратами.
— А если она еще и беременная?
— Такое тоже случается. К нам поступают пациентки, например, с хориоамнионитом, у которых буквально за несколько часов может развиться сепсис. Здесь борьба идет одновременно за жизнь и матери, и ребенка. В таких ситуациях первопричиной часто становятся микроорганизмы.
Татьяна Валерьевна Припутневич. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
— Вы еще и главный специалист-микробиолог Минздрава. Мне кажется, эта специальность появилась не так давно?
— Официально она была введена в 2021 г. с утверждением нового профессионального стандарта. Однако медицинская микробиология как область знаний существовала всегда. Со студенческих лет нам знаком учебник «Медицинская микробиология», охватывающий вирусологию, бактериологию, паразитологию и микологию. Исторически эти дисциплины выделились в отдельные специальности. Сейчас мы вернулись к интегрированному подходу, приведя номенклатуру специальностей в соответствие с современными реалиями. Это особенно актуально в эпоху глобальных биологических угроз и пандемий. Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) наглядно продемонстрировала всю палитру медицинской микробиологии: заболевание начинается как вирусная инфекция, затем осложняется бактериальной суперинфекцией, а в тяжелых случаях может присоединиться инвазивная грибковая инфекция. Фактически на примере тяжелых пациентов с COVID-19 мы наблюдали все три основных класса патогенов (кроме паразитов). Лечение таких случаев силами только бактериолога или вирусолога сегодня немыслимо. Поэтому наша ключевая задача — подготовить новое поколение специалистов, владеющих основами бактериологии, вирусологии, микологии и паразитологии. Многие сомневаются, возможно ли это. Я убеждена, что да, и ключевую роль здесь сыграет профессорско-преподавательский состав, задействованный в реализации образовательных программ. Его подготовка — также наша важнейшая задача.
— Мы с вами как раз беседуем в Российской медицинской академии последипломного образования, где вы преподаете. Расскажите, как это происходит?
— Начну с нашей кафедры. Место, где мы находимся, исторически значимо для отечественной микробиологии. Здесь работала плеяда выдающихся ученых, и в первую очередь Зинаида Виссарионовна Ермольева. Буквально под нами располагалась возглавляемая ею кафедра микробиологии. Эту выдающуюся женщину называют «госпожа Пенициллин» за ее вклад в развитие антибиотикотерапии в СССР. Впоследствии кафедрой руководили различные академики и профессора, в том числе мой предшественник академик Алексей Михайлович Егоров. 1 июля этого года по результатам очередных выборов я перешла в статус заведующей кафедрой. Безусловно, это большая ответственность. Моя главная цель здесь — организация центра по подготовке и переподготовке медицинских микробиологов. С 2023 г. мы начали обучение; первый этап — переподготовка врачей-бактериологов, вирусологов, паразитологов-микологов в рамках единой специальности. Нам удалось сформировать сильный профессорско-преподавательский состав: лекции по бактериологии читают ведущие бактериологи страны, по вирусологии — ведущие вирусологи и т.д. Особую сложность представляет паразитология — классических специалистов остались единицы. Мы привлекли лучших из них, чтобы сохранить знания и подготовить новое поколение врачей. Сегодня на кафедре последипломного образования РМАНПО собраны ведущие профессора страны. Кроме того, мы организовали по всей стране переподготовку врачей на базе ведущих медицинских вузов. Такие курсы функционируют уже почти в 30 учреждениях страны.
— Чтобы у наших читателей не сложилось впечатление, что микромир — это что-то враждебное и страшное, давайте поговорим о том, чем он прекрасен, чем вас в свое время увлек.
— Начнем с философии: не вполне ясно, кто кем управляет. Учитывая, что сам человек представляет собой симбиоз с триллионами микроорганизмов, наша задача — научиться с ними сосуществовать, а не только уничтожать их. Сегодня мы пересматриваем роль микробиоты как в норме, так и при различных патологиях, и не только инфекционного характера. Проведены многочисленные исследования, защищены диссертации, получены гранты на изучение ее влияния практически на все системы организма. Раньше господствовала концепция «один микроб — одна болезнь». Сегодня мы понимаем, что это верно лишь отчасти. Безусловно, для истинных патогенов, таких как гонококк, это справедливо: есть возбудитель — есть специфическое заболевание. Но возьмем, например, самую часто встречаемую проблему в гинекологии — бактериальный вагиноз, который называют еще полимикробным дисбиозом. Я уверена, что тот, кто раскроет истинную причину этого состояния и поймет, почему комменсалы внезапно становятся агрессивными, будет удостоен Нобелевской премии. Я была студенткой, когда открыли Gardnerella vaginalis; все ликовали: ура, причина бактериального вагиноза найдена! Прошло более 20 лет, и чем глубже мы изучаем микробный состав при этом состоянии, тем яснее понимаем его сложность. Безусловно, гарднерелла доминирует, но в процесс вовлечено огромное сообщество других микроорганизмов. Происходят сложные дисбиотические перестройки; микробы формируют биопленки, что делает лечение крайне сложным, поскольку они эффективно уклоняются от воздействия терапии.
— А есть еще состояния, когда вам нужно определиться с нормой биоты. Наверняка это тоже не всегда просто.
— Мы предпринимали несколько попыток разработать нормативные документы по определению нормы любого биотопа человека. Оказалось, это крайне сложно. Безусловно, существуют базовые представления: например, в репродуктивном тракте женщины ключевую роль играют лактобациллы, и их отсутствие — неблагоприятный признак. Но что касается остального микробного сообщества, то это условно-патогенные микроорганизмы и в низких титрах они имеют право там жить. Здесь тонкая грань между нормой и патологией. Наша задача сегодня — не вмешиваться без необходимости. Очень часто, видя, например, эпидермальный стафилококк, врач решает: «Давайте его пролечим!» Этого в подавляющем большинстве случаев делать не следует.
— Не всегда нужно лечить?
— Именно. Грань между нормой и патологией очень тонка. Поэтому микробиологи должны работать в тесном контакте с клиницистами. Даже при подозрении на патологию не следует сразу применять антибиотики. Возьмем кишечник, который не зря называют вторым мозгом. От состояния кишечной микробиоты зависят сон, мышление, даже эмоциональный фон. Ось «кишечник — мозг» — доказанный научный факт. Многочисленные исследования устанавливают связь между дисбиозом кишечника и нейродегенеративными (такими как болезни Альцгеймера, Паркинсона) и психическими заболеваниями. Есть данные о дефиците определенных полезных бактерий при этих состояниях. Чтобы глубже понять эти связи, необходимо научиться выявлять и выделять эти бактерии. И это, повторюсь, задача микробиолога.
— Каким образом микробиолог это делает сегодня?
— Раньше диагностические способы были ограничены. Например, одно только микроскопирование — изучение микроорганизмов через микроскоп — заняло 100 лет. Прорыв начался в конце XX в. с появлением автоматических бактериологических анализаторов, ускоривших диагностику и определение чувствительности к антибиотикам. Следующий этап — развитие молекулярных методов в 1990-х гг. Они выявили огромное количество случаев хламидиоза и гонореи, что вызвало настоящий шок и привело к избыточной терапии. Однако первые молекулярные тест-системы не отличались высокой точностью. Современные значительно точнее, и проблема гипердиагностики сейчас менее актуальна. В 2000-х гг. появилась MALDI-TOF-масс-спектрометрия. Этот метод произвел взрывную революцию. Это мой любимый метод, именно на нем основана моя докторская диссертация. Я была одним из первых клинических микробиологов в стране, внедривших эту технологию. Для меня это стало окном в микромир: мы увидели, что в одном образце могут присутствовать сотни видов микроорганизмов — целая вселенная! Масс-спектрометрия как метод позволяет нам не только идентифицировать бактерии, но и изучать их потенциально полезные свойства, например продукцию короткоцепочечных жирных кислот, критически важных для функций кишечника и мозга.
— Вы как главный внештатный специалист наверняка нередко выезжаете в регионы. Что можете сказать об общем уровне наших микробиологических исследований?
— Да, командировки — неотъемлемая часть моей работы. Посещение региональных лабораторий позволяет скорректировать работу врачей на местах и помочь отладить процессы, которые иногда невидимы при рутинной работе, и люди просто не задумываются, что можно что-то улучшить. Вот характерный пример. Во время пандемии коронавируса по всей стране было создано множество ПЦР-лабораторий. Всем уже известен этот молекулярный метод, при помощи которого быстро выявлялся вирус SARS-COV-2. И сегодня я сталкиваюсь с тем, что эти лаборатории простаивают. Пандемия ушла, исследования делаются единичные. Но утверждать, что они пригодны только для диагностики новой коронавирусной инфекции, — ошибка! Безусловно, COVID-19 остается, но эти мощности можно и нужно наполнять диагностикой любых других инфекционных патологий. К счастью, тест-систем отечественного производства у нас хватает.
— Что можно там диагностировать?
— Например, другие вирусные инфекции респираторного тракта. Можно определять инфекции, передаваемые половым путем, острые кишечные инфекции, грибковые инфекции; даже определять маркеры резистентности у бактерий к антибиотикам, правда, эта работа должна вестись в сочетании с классическими культуральными методами.
— Перед нашей беседой вы сделали очень интересное сравнение нашей Вселенной с чашкой Петри. Какая тут взаимосвязь?
— Это мое личное восприятие микромира. Заглядывая в микроскоп более 20 лет, я вижу, как на разных питательных средах в чашке Петри вырастают разнообразные колонии. Разные цвета, формы, размеры — целый микрокосм. И меня не покидает мысль, что за нами и нашей планетой кто-то наблюдает точно так же, как мы — за микробами. Подумайте: питательная среда для микробов — это искусственно созданные человеком условия. Этим, в частности, занимаемся и мы в нашем Институте микробиологии НМИЦ им. В.И. Кулакова, изучая, например, методы культивирования сложной кишечной микробиоты и подбирая условия для роста прихотливых микроорганизмов. Часто говорят, что многие ее представители некультивируемы. Я уверена: все культивируемо! Главное — подобрать нужные ингредиенты и среду. Теперь перенесем эту мысль на планету Земля: откуда у нас нефть, газ, драгоценные металлы? С моим отцом Валерием Николаевичем Припутневичем, заслуженным геологом и шахтером, почетным разведчиком недр, мы часто рассуждали на эту тему. Наши профессии в какой-то мере схожи: папа искал то, что нужно человеку, а я — то, что необходимо микробиоте.
— Получается, что ваше занятие микробиологией каким-то образом связано с геологией?
— Я невольно провожу параллель. Сегодня наша ключевая задача — доказать, что не существует некультивируемых микроорганизмов. Мой папа всю жизнь искал золото. Мы же ищем уникальные вещества и свойства, изучаем микроорганизмы, чтобы научиться их культивировать. Это принципиально важно: получив микроорганизм в чистой культуре, мы можем всесторонне изучить его свойства, выделить его метаболиты, создать на их основе полезные лечебные препараты. Цель геолога или шахтера — найти и добыть ресурс. Как тут не заметить взаимосвязь?
— Папа хотел, чтобы вы пошли по его стопам?
— Я не раз бывала с ним и в шахтах, и в стенах Ленинградского горного института, где он учился. Меня всегда интересовало: как вы определяете, где вести разведку? Почему выбираете именно этот участок? Он объяснял, что для этого существуют научные методы, которым обучают. Точно так же и в нашей работе: мы исследуем микроорганизмы, анализируем их фундаментальные свойства и накапливаем знания, чтобы понять, как их культивировать. Именно это позволяет нам своевременно выявлять опасные инфекции и создавать новые препараты. Это необыкновенно увлекательное занятие, способное захватить на всю жизнь.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ