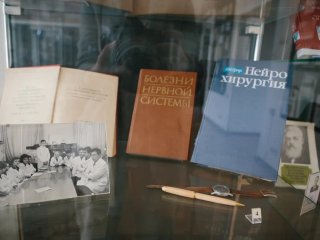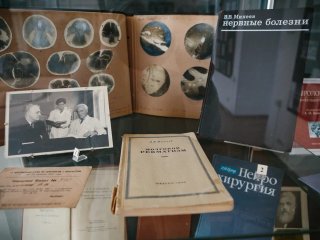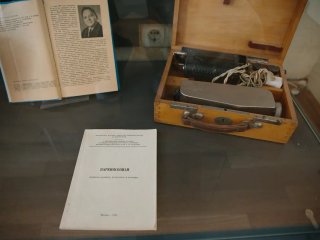Что сегодня известно о самом распространенном нейродегенеративном заболевании — болезни Альцгеймера? Научились ли ее диагностировать до появления первых симптомов? Какую помощь можно предложить таким пациентам? Что мы сами можем сделать, чтобы избежать подобных проявлений? Научатся ли полностью излечивать эту патологию? Об этом рассказывает Владимир Анатольевич Парфенов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова при Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.
Владимир Анатольевич Парфенов. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
Владимир Анатольевич Парфенов — невролог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Специалист в области сосудистых заболеваний головного мозга, профилактики ишемического инсульта, когнитивных нарушений, головной боли. Член президиумов Всероссийского общества неврологов и Национальной ассоциации по борьбе с инсультом. Автор более 500 научных и педагогических трудов. Постоянный участник международных исследований неврологической направленности.
— У нас сегодня очень актуальная тема — болезнь Альцгеймера. Первый вопрос личный: у меня сегодня ребенок сдает ЕГЭ, и накануне пропал его паспорт. Мы всей семьей полночи его искали, все перевернули, а когда надежды уже не было, оказалось, что я сама положила его под пресс, потому что там была помята страничка, и начисто об этом забыла. Вспомнила только часа в два ночи. Это болезнь Альцгеймера подбирается?
— Нет, это не симптом болезни Альцгеймера, это расстройство памяти, связанное со стрессом.
— А какие симптомы у болезни Альцгеймера? На что надо обратить внимание в первую очередь?
— Самое частое проявление — повседневная забывчивость, когда человек забывает события текущего дня: он может не вспомнить, что было днем, что было несколько дней назад. При выраженных формах может задавать одни и те же вопросы, чем очень удивляет своих близких, — это самая частая форма. Он может неплохо помнить отдаленные события, но, к сожалению, то, что происходит в ближайшие дни и часы, забывается, и это вызывает беспокойство, непонимание у окружающих. Второе проявление, менее частое, — расстройство речи. Речь становится бедной, человек запинается. Впечатление, что он подбирает слова. Обеднение речи, замедленность с постепенным прогрессированием — второй вариант болезни Альцгеймера. Есть и другие варианты, но они более редкие.
— Правда ли, что это заболевание молодеет?
— Существуют две формы болезни Альцгеймера: с ранним началом, до 65 лет, и с поздним, старше 65. Основная часть людей, примерно 85–90%, конечно, болеют в пожилом возрасте. Но где-то 10–15% заболевают в возрасте до 65 лет. Самое раннее начало — 45–50 лет, но это встречается относительно редко. При дебюте в молодом возрасте чаще встречаются наследственные формы заболевания, когда у кого-то в роду были подобные расстройства. Но сказать, что в настоящее время болезнь Альцгеймера проявляется в более молодом возрасте, мы не имеем никаких оснований. Просто люди живут дольше, поэтому увеличивается число тех, кто доживает до болезни Альцгеймера.
— Правда ли, что болезнь Альцгеймера развивается длительное время бессимптомно?
— Основное морфологическое проявление болезни Альцгеймера — отложение патологического белка амилоида в головном мозге. Показано, что этот процесс возникает задолго до основных проявлений заболевания. Эти патологические процессы идут в течение 10–20 лет, и только через определенное время появляются симптомы.
— Наверняка существуют новые исследования, которые предлагают определять это заболевание на самых ранних стадиях, до появления симптомов?
— Абсолютно правильно. И это самое интересное, что можно сегодня обсуждать. Появились биологические маркеры болезни Альцгеймера. Для этого существуют разные методы, но один из самых простых и доступных в нашей стране — определение маркеров этой патологии в цереброспинальной жидкости. Пациенты, которые приходят к нам и у которых мы предполагаем это заболевание, имеют возможность исследования цереброспинальной жидкости. Если в ней определяется низкое содержание определенной фракции бета-амилоида, высокое содержание общего и фосфорилированного тау-протеина, то это с высокой вероятностью предполагает развитие в дальнейшем болезни Альцгеймера. Использование данных маркеров постепенно внедряется в клиническую практику.
— Слышала, что есть исследования, когда для указанных целей берется сыворотка крови, что менее инвазивно.
— Да, предпринимаются попытки изучать маркеры не только в цереброспинальной жидкости, но и в сыворотке крови. Этот метод находится в стадии разработки, но, видимо, скоро мы будем так же, как сегодня, уверенно говорить об информативности такого исследования. Есть еще одна, более сложная методика — позитронно-эмиссионная томография. Она может позволить определить патологический бета-амилоид, белок тау-протеин, в реальном времени. Но это более дорогостоящая методика, более сложная. Сейчас она чаще используется в научных исследованиях.
— Эти методики уже применяются к пациентам?
— Конкретно клиника, в которой вы сейчас находитесь, специализируется на болезни Альцгеймера, на ее диагностике. Последние годы мы активно проводим эти исследования, показываем, что диагноз может быть подтвержден или опровергнут. Есть еще другие причины, по которым возникают нарушения памяти и других функций.
— Какие?
— Например, лобно-височная дегенерация. По данным СМИ, этим заболеванием страдает Брюс Уиллис. Далее, есть деменция с тельцами Леви, сосудистая деменция и ряд еще более редких заболеваний. Болезнь Альцгеймера — самая частая причина, 60–70% всех случаев выраженного снижения когнитивных функций. А вот процентов 30–40 приходится на другие, более редкие заболевания.
Владимир Анатольевич Парфенов. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
— Все врачи говорят, что ранняя диагностика — залог успешного лечения. В случае болезни Альцгеймера это тоже так?
— Через некоторое время мы скажем это более уверенно, но сейчас, несомненно, к этому есть предпосылки. Закономерный вопрос: что мы можем предложить человеку, у которого обнаружен высокий риск заболевания или даже первые симптомы, и мы с помощью этих методов обследования подтвердили диагноз? Есть два варианта. Первый — это образ жизни.
— Расскажите подробнее. Это очень интересно и под силу каждому.
— Несомненно. В первую очередь — регулярная физическая активность. Она выбирается индивидуально и остается очень важной. Следующее — умственная деятельность, активный когнитивный тренинг: если у человека страдают какие-то когнитивные функции, мы можем их стимулировать. Умственная работа очень важна. А дальше — пусть, может быть, звучит как банальность, ведь это относится и к другим заболеваниям, — контроль нормального артериального давления, уровня сахара в крови, холестерина, веса, нарушения сна, эмоциональных расстройств. Есть очень большое количество расстройств, скорректировав которые, мы можем улучшить когнитивные функции и замедлить прогрессирование когнитивных нарушений.
— Интересно, каким образом связаны, скажем, артериальная гипертония и болезнь Альцгеймера?
— Артериальная гипертония — один из важнейших факторов развития когнитивных нарушений, как сосудистых, так и вследствие болезни Альцгеймера. Высокое артериальное давление приводит к тому, что страдают мелкие сосуды головного мозга, могут возникать повреждения вещества головного мозга и в целом усиливаются процессы дегенерации нервной ткани, поэтому поддержание нормального артериального давления рассматривается как одно из наиболее эффективных направлений в профилактике когнитивных нарушений самого различного генеза, включая болезнь Альцгеймера. Переоценить значимость этого направления невозможно.
— Какие еще вы можете предложить сценарии минимизации последствий этого заболевания?
— Мы перечислили нелекарственные методы, а в последние 20–30 лет весь мир работает над поиском препаратов, которые изменяют течение патологического накопления амилоидов в головном мозге. Потрачены огромные средства, и количество врачей, участвующих в этих исследованиях, огромно. Клиника, где мы с вами беседуем, в течение длительного времени принимает участие в этих международных исследованиях. Идея направлена на то, чтобы воздействовать на ферменты, ответственные за образование патологического бета-амилоида и тау-протеина в головном мозге, чтобы замедлить этот патологический процесс. Положительных результатов не было длительное время, хотя вкладывались очень большие деньги. Но буквально два года назад опубликованы сведения о том, что два лекарства с общей формулой — леканемаб и донанемаб — дают несомненный эффект. Они действительно замедляют процесс, а осложнения от приема препаратов не столь существенны. В настоящее время в некоторых странах начали использовать препараты, направленные на замедление развития болезни Альцгеймера.
— Какие результаты?
— Пока данные накапливаются, но те исследования, которые были проведены, показывают, что на два-три года можно задержать прогрессирование выраженных когнитивных нарушений. В некоторых странах люди получают лечение, за ними наблюдают на разных этапах, смотрят, насколько это эффективно. Разрабатываются и другие препараты. В отношении тау-протеина также идут исследования, но пока это не изучено. Анализируют и другие механизмы развития рассматриваемого заболевания. Количество исследований, посвященных патогенетической терапии заболевания, или, как сейчас это принято называть, болезнь-модифицирующей терапии, очень велико. В ближайшее время эти препараты могут быть разрешены для применения в нашей стране.
— При болезни Паркинсона в некоторых случаях показана электростимуляция головного мозга. А при болезни Альцгеймера это возможно?
— В болезни Паркинсона основное — заместительная терапия препаратами леводопы. Электростимуляция мозга — дополнительный метод терапии у небольшой части пациентов. Она тоже обсуждается применительно к болезни Альцгеймера, но пока это находится в стадии изучения. При болезни Альцгеймера снижается содержание ацетилхолина, существуют препараты, ингибиторы центральной ацетилхолинэстеразы, которые компенсируют этот дефицит и улучшают когнитивные функции. Их также может улучшить мемантин. Подобные препараты уже длительное время используются у пациентов с болезнью Альцгеймера. Естественно, когда мы объединяем все эти методы, мы можем более эффективно помочь таким пациентам.
— А каких-то оперативных методик тут не существует?
— Они разрабатываются, но я вам привел пример того, что доказано в настоящее время. Возможно, через какое-то время мы будем говорить о том, что появилось еще что-то очень эффективное.
— Как я понимаю, болезнь Альцгеймера сегодня неизлечима, мы можем только стремиться затормозить происходящие процессы. Можем ли мы сказать, что она не поддается излечению, потому что не понимаем ее причин?
— В определенной степени, конечно, да: много изучено, но вопросов, оставшихся без ответа, не меньше. Вероятно, мы просто нашли патологические изменения бета-амилоидов, тау-протеина. Но дело может обстоять так, что за этим скрываются другие изменения, которые мы не обнаружили. Обнаружим эти изменения — будем еще более эффективно помогать пациентам. У небольшой части больных есть именно наследственная патология, однако не разработаны препараты, действующие на генетическом уровне.
— Как вы думаете, получится найти механизмы, которые компенсируют состояние таких людей?
— С очень высокой долей вероятности — да, только неясно, сколько времени это займет. Несколько лет назад мы не говорили ни о каких лекарствах. Сейчас появились лекарства и более уверенные доказательства положительного влияния образа жизни. Многие болезни не имеют эффективного лечения, но сегодня человек с болезнью Альцгеймера может подарить себе по крайней мере несколько лет интеллектуальной и творческой жизни.
— Есть ли у вас какие-то личные наблюдения, почему некоторые люди до глубокой старости сохраняют удивительную ясность ума? Это генетика? Или в большей степени зависит от самого человека?
— Несомненно, здесь есть генетические феномены. Когда шутят, что самое главное в отношении многих заболеваний — выбрать себе хороших родителей, то здесь лишь доля шутки. Важно иметь хорошую генетику. А дальше — образ жизни. Когда это сочетается, получаются такие замечательные случаи, что человек живет и работает долго. Конечно, важен потенциал человека: чем больше он работает, чем больше он активен, тем лучше для его когнитивных функций. Многие люди думают, что они уйдут на пенсию, все будет спокойно, им будет легче, это будет способствовать их памяти… Нет, все наоборот. Исследования показывают, что люди, живущие отдаленно, в горах, не имеют никаких стрессов, но это никак не задерживает развитие у них когнитивных нарушений. Видимо, небольшой стресс необходим, как и активность.
— Есть ли у вас пациенты, которым удалось помочь в результате применения упомянутых методик?
— У нас есть пациенты с отсутствием или легким прогрессированием заболевания, которых мы наблюдаем очень долго — пять, десять лет. У них присутствует болезнь Альцгеймера, это не вызывает сомнений. Но протекает она по-разному. Если говорить о распространенности, видимо, в возрасте 90+ она есть у половины людей. В возрасте 80+ есть у 20–30%. Человека не надо пугать этим заболеванием, что мы часто делаем. Мы говорим об оптимальных подходах к образу жизни: люди, которые этому следуют, длительно сохраняют память. Есть примеры, когда когнитивные нарушения были вызваны другими причинами, а пациенты думали, что это болезнь Альцгеймера. Это может быть, например, эмоциональное расстройство, что случается очень часто; различная хроническая боль — находят ее причину, корректируют, и когнитивные функции улучшаются. Поэтому, если в целом обсуждать более широкую проблему нарушения когнитивных функций, здесь много примеров, когда люди не просто чувствуют себя хорошо — они ведут активную профессиональную деятельность. В своих книгах, монографиях мы описываем пациентов, которым удалось поставить диагноз и эффективно помочь. Многие считают, что болезнь Альцгеймера, вообще когнитивные нарушения — это какая-то степень безысходности, но когда изучают влияние всех возможных направлений в лечении этих заболеваний, оказывается, что это имеет очень заметный результат. В том числе, кстати, экономический.
— У многих дома есть пожилые люди, у которых развиваются подобные симптомы. Как надо вести себя с ними? Например, если они через каждые пять минут задают один и тот же вопрос, — терпеливо повторять или говорить, что надо постараться запомнить или записать? Как лучше?
— Это сложный вопрос. Здесь очень важна помощь профессионала. Как себя вести с больным? С одной стороны, несомненно, надо его тренировать, чем-то занять. С другой — как это сделать правильно? Более простая ситуация: пожилой человек оставлен дома, родственники ушли, он спит, а вечером мешает им спать. Что с ним сделать? Самое плохое в этом случае — назначить нейролептики. Это может привести к непоправимому. А если занять человека днем, наладить его обучение, это позволит ему быть активным в течение дня. Что говорить и как общаться — это задача врачей. Тут нужно обучение родственников. Все положительные результаты лечения определяются не только тем, что человек хорошо говорит, выполняет какие-то функции, но и тем, что сами родственники отмечают: лучше стало как ему, так и им.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ