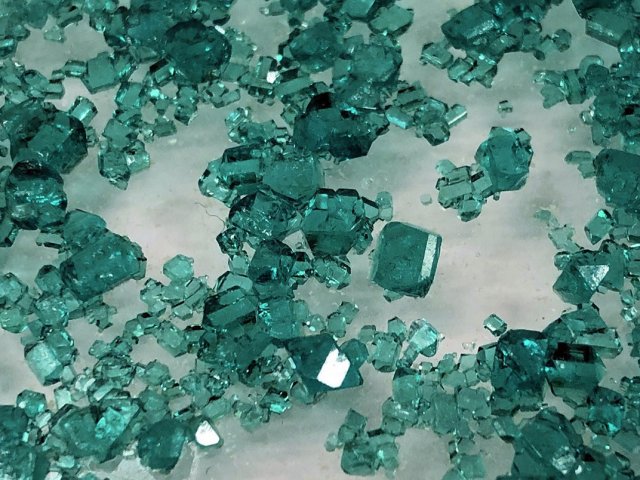Развитая наука и технологическая независимость — залог процветания страны. Добиться этого невозможно без мудрого и дальновидного государственного управления. О прошлом, настоящем и будущем российской научно-технической политики корреспонденту портала «Научная Россия» рассказал заместитель президента Российской академии наук, руководитель информационно-аналитического центра «Наука» РАН член-корреспондент РАН Владимир Викторович Иванов. Эффективно ли современное законодательство в научно-технической сфере? Какую роль играет повышение статуса РАН и какие возможности открывает создание при ней попечительского совета? Какие задачи стоят перед современной российской наукой и в чем стоит равняться на советскую организацию научно-технической сферы? Почему важно развивать фундаментальную науку? Об этом и многом другом читайте в новом интервью на нашем портале.
Владимир Викторович Иванов — заместитель президента Российской академии наук, руководитель информационно-аналитического центра «Наука» РАН, заместитель председателя Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, член экспертных советов профильных комитетов Совета Федерации и Государственной думы и др., доктор экономических наук, кандидат технических наук, член-корреспондент РАН. Специалист в области исследования российских и глобальных процессов научно-технологического и инновационного развития, техногенной безопасности, методологии стратегического планирования. Автор более 200 научных работ.
— Как, на ваш взгляд, менялась российская политика в области науки и технологий с момента распада Советского Союза и как это отражалось в законодательстве страны? Насколько я понимаю, до определенного момента этой сфере не уделялось должного внимания, после чего снова стали приниматься меры, способствующие прогрессу. Возможно ли отметить переломный период, когда ситуация стала меняться к лучшему, и если да, с чем это было связано?
— Прежде всего отметим, что научно-техническая политика и законодательство России и СССР различаются принципиально. В Советском Союзе не было законодательства о науке, система управления научными исследованиями и разработками, их организация и управление были совершенно другими. Подход к науке поменялся вместе с масштабными трансформациями, произошедшими в 1991–1992 гг. Первым документом, на основе которого формулировались новые российские подходы к научно-технической политике, стал доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором западные эксперты оценивали состояние нашей науки и давали рекомендации, как можно ее реформировать и реорганизовать. В дальнейшем этот доклад был взят за основу новой научно-технической политики, хотя не все одобрили предложенные подходы, в связи с чем несколько раз предпринимались попытки вернуть науке статус одного из институтов развития страны.
Тем не менее в 1990-е гг. было резко сокращено наукоемкое производство. В 1998 г. было подписано Болонское соглашение, суть которого заключалась, во-первых, в унификации требований к специалистам, во-вторых, в обеспечении кадрами Европы. Так записано в Болонском соглашении, и тем не менее чиновники под этим подписались.
В 2004 г. в противостоянии идей окончательно победил взгляд ориентированных на Запад коллег. Тогда наука и образование были позиционированы как «услуга» и отнесены к социальному сектору экономики со всеми вытекающими последствиями. Тогда же было ликвидировано самостоятельное ведомство, ведавшее наукой, и создано Министерство образования и науки. То есть было показано, что основная задача науки — обслуживать образование. Подчеркну: не всю экономику, а только образование!
Заключительным этапом этих трансформаций стало изменение статуса Российской академии наук в 2013 г. Это нельзя назвать реформой, потому что реформа — это изменение формы при сохранении сущности. А в том случае была непосредственно изменена сущность РАН.
В чем это проявилось? С момента своего создания РАН считалась высшей научной организацией страны. Это было написано еще в указе Петра Первого об учреждении академии наук. В 2013 г. это положение было отменено. Из-под руководства академии наук были выведены все научные организации, региональные центры.
Таким образом были выполнены основные рекомендации западных экспертов. Считалось, что это позволит России интегрироваться в мировое научно-техническое пространство и мы сразу станем «своими людьми» в этой команде. Но не учитывалось то, что лишние конкуренты, естественно, никому не нужны и как лидирующую структуру Россию никто не рассматривал.
Впрочем, осознание этого факта наступило достаточно быстро. Уже в 2014 г. стало понятно, что мы свернули куда-то не туда. Кардинально ситуация изменилась в 2018 г., когда в послании президента России Федеральному собранию были определены четыре новых приоритета развития страны, принципиально отличавшиеся от всего предыдущего: повышение качества жизни, ликвидация научно-технического отставания, развитие территории, а также оборона и безопасность.
Заместитель президента РАН Владимир Викторович Иванов: «С 2018 г. начался процесс восстановления роли науки в жизни страны, продолжающийся до настоящего времени».
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
В чем принципиальное отличие этих приоритетов от более ранних подходов? Дело в том, что до этого периода мы в основном говорили об удвоении ВВП. Это было главной задачей. А теперь на первое место поставили человека. И это самое важное. Если посмотреть на последующие выступления президента, то все они напрямую связаны с задачами развития человеческого потенциала, сохранения семьи. Очевидно, что эти вопросы нельзя решить без собственного мощного научно-технического потенциала. В этот момент, пожалуй, и произошел перелом в понимании проблемы.
Но этому предшествовало еще одно событие. В 2014 г., выступая на совещании у тогдашнего вице-премьера Дмитрия Олеговича Рогозина на форуме «Технопром», представители РАН предложили разработать и принять Стратегию развития научно-технологического комплекса страны. Предложение было поддержано, в следующем году оно было включено в послание президента, и скоро этот документ воплотился в жизнь в виде Стратегии научно-технологического развития. Данное решение тоже послужило одной из причин изменения подходов к науке.
Итак, с 2018 г. начался процесс восстановления роли науки в жизни страны, продолжающийся до настоящего времени. Примерно так можно описать общую картину.
— В феврале 2024 г. по распоряжению президента России возможности и функции РАН были существенно расширены. На ваш взгляд, какие из принятых в рамках этой инициативы решений играют особенно важную роль и почему?
— Нужно отметить, что изменения произошли не только в результате поручений президента России, данных по итогам торжественного мероприятия в Большом Кремлевском дворце, посвященного 300-летию академии наук. Кроме этого, был принят еще ряд важных решений, поэтому лучше рассматривать все в комплексе.
Во-первых, президент РАН Геннадий Яковлевич Красников вошел в состав Совета безопасности РФ. Во-вторых, был создан Научно-технический совет при Комиссии по научно-технологическому развитию России, который также возглавил президент РАН.
Почему это два важных момента? Если снова обратиться к эпохе Советского Союза, то можно увидеть, что президент Академии наук СССР всегда входил в «высшие эшелоны» власти. Это была одна из ключевых фигур, к которым власть всегда прислушивалась, пусть и не всегда соглашалась с их рекомендациями.
Сейчас Г.Я. Красников занял практически такую же позицию. И структура управления, при которой в состав правительственной Комиссии по НТР входит Научно-технический совет под руководством президента РАН очень напоминает Государственный комитет по науке и технологиям Советского Союза. Если посмотреть положения, регулировавшие работу ГКНТ СССР, то видно, что свои действия по формированию и реализации научно-технической политики, определению приоритетов деятельности он согласовывал и выполнял совместно с АН СССР. Поэтому создание такой структуры можно считать шагом к восстановлению единой системы управления наукой.
Почему это так важно? Дело в том, что федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» предусматривает систему управления, при которой формирование и реализацию государственной научно-технической политики осуществляет специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, то есть Министерство науки и высшего образования России. Но, помимо этого, собственную политику в этой сфере независимо проводят и другие министерства.
При этом, согласно Стратегии научно-технологического развития России, основные направления политики в научно-технической области определяют президент России и Совет при президенте по науке и образованию, а ее исполнение возлагается на Комиссию по научно-технологическому развитию.
Таким образом, здесь мы сталкиваемся с некоторыми противоречиями и несинхронностью, поскольку получается, что законодательство и реальная схема управления сферой исследований и разработок не вполне соответствуют друг другу. Тем не менее сейчас эти позиции выравниваются и вся структура управления принимает более четкие и понятные контуры.
Нужно отметить еще один момент. В статье Петра Леонидовича Капицы, написанной в середине 1980-х гг., сравниваются системы управления научно-технической сферой Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Так вот, по его мнению, советская система выгодно отличалась от американской именно тем, что в ней не было избыточного параллелизма и в стране проводилась единая научно-техническая политика. Наверное, это действительно так, потому что сложно представить, как после страшной войны 1941–1945 гг. стране удалось за очень короткий срок выйти в мировые технологические лидеры. Скорее всего, это стало возможным именно за счет системы управления. Сейчас, судя по всему, мы постепенно возвращаемся к уже отработанным подходам.
— Сейчас, когда с расширения полномочий и возможностей РАН прошел практически год, как вы оцениваете реализацию принятых мер?
— К настоящему времени по этим вопросам уже даны поручения президента России. Все они направлены на решение актуальных задач. Но пока эти распоряжения не получили необходимого законодательного подтверждения. Например, везде уже говорится, что РАН руководит Высшей аттестационной комиссией. Это действительно так: председатель и главный ученый секретарь ВАК — это соответственно вице-президент РАН академик РАН Владислав Яковлевич Панченко и заместитель главного ученого секретаря президиума РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Владимирович Иванов. Но соответствующие изменения в законодательство пока не внесены. Во время своего выступления в Государственной думе 26 марта премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин сообщил, что соответствующий законопроект уже разработан и внесен на рассмотрение.
Еще один важный момент касается издательской деятельности РАН: в академию наук предполагается передать издательство «Наука». Другой вопрос связан с информационной деятельностью: под руководство РАН планируется перевести Российский центр научной информации (РЦНИ). Сейчас, как сообщил М.В. Мишустин, и эти положения внесены в законопроект и также находятся на рассмотрении в Госдуме. Надеемся, что в ближайшее время все будет принято.
Эти изменения, безусловно, важны, но их нужно расценивать как начало большого пути, потому что нам необходимо восстанавливать реальное участие РАН в управлении, прежде всего, фундаментальной наукой, как это было до 2013 г.
— Председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Владимирович Кабышев на общем собрании членов РАН в декабре 2024 г. сообщил, что ведется работа над кардинально новым законом о российской науке. Что вы можете сказать об этом проекте и его значении? Возможно, вам хотелось бы выделить и другие законодательные инициативы, касающиеся российских науки и образования, которые рассматриваются сейчас?
— Здесь складывается более сложная ситуация. Если проанализировать глобальные трансформации, вытекающие отсюда задачи и то, как они сформулированы в Стратегии научно-технологического развития, видно, что речь идет о переводе экономики России в режим полного инновационного цикла. РАН говорила об этом еще в начале 2020-х гг. В 2023 г. такую задачу сформулировал тогдашний секретарь Совета безопасности РФ Николай Платонович Патрушев, назвав это в своем интервью основной задачей правительства. Сейчас эта идея получила развитие в Стратегии НТР.
Интересно, что несколько дней назад (интервью было записано 3 апреля 2025 г. — Примеч. авт.) ту же идею высказал вице-президент США, только применительно к Соединенным Штатам. Таким образом, в настоящее время мы фактически находимся на старте новой масштабной технологической гонки. И успеха добьется тот, кто первым решит поставленные задачи.
«Нам необходимо восстанавливать реальное участие РАН в управлении, прежде всего, фундаментальной наукой, как это было до 2013 г.», — подчеркнул В.В. Иванов.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Что касается законодательства, то, по-видимому, необходимо говорить не только о законе о науке. Во-первых, он будет не единственным документом, регулирующим область науки и технологий. Во-вторых, есть большие сомнения, что возможно написать полноценный закон о науке. Можно написать закон о научно-технической политике, но не о науке. Дело в том, что наука развивается по собственной логике и ее нельзя отрегулировать административными законами. Речь должна идти о комплексе законов, регулирующих научно-техническую и инновационную деятельность в стране.
Сейчас в России действуют федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», закон «О Российской академии наук…», закон «О статусе наукограда Российской Федерации», два закона, регулирующие деятельность национальных исследовательских центров «Курчатовский институт» и «Институт им. Н.Е. Жуковского», а также закон, определяющий нормативное положение двух наших ведущих государственных университетов — Московского и Санкт-Петербургского. Это документы, касающиеся только науки.
Сразу возникает вопрос: все ли эти законы действительно необходимы? Скажем, параллельно с законом о РАН существует собственный устав академии. Получается, что Устав РАН должен дословно повторять все положения закона, потому что иначе он будет ему противоречить. Нужен ли вообще в таком случае отдельный закон о РАН? Если обратиться к истории, можно заметить, что уставы академии наук всегда подписывались высшими государственными органами власти. А первое положение об академии наук было подготовлено под руководством императора Петра I. Может быть, сейчас стоит к этому вернуться. И этому будет способствовать создание попечительского совета РАН под руководством президента России.
В то же время, если говорить об экономике полного инновационного цикла, то это не только наука, но и технологии, и промышленность. Эти сферы регулируются федеральными законами о промышленной и технологической политике, а также Концепцией технологического развития.
В результате возникает немало проблем, связанных с тем, что все перечисленные законы необходимо состыковать хотя бы на уровне понятийного аппарата и сделать так, чтобы ни один из них не противоречил другим. Только так можно обеспечить логику полного инновационного цикла.
Поэтому если обсуждать новое законодательство, то стоит говорить о едином научно-инновационном кодексе. Тогда это будет эффективно. В противном случае мы рискуем получить несколько отдельных законов, не согласованных между собой, когда каждое министерство пишет отдельный документ под себя.
— С вашей точки зрения, с какими основными проблемами сталкивается сегодня российская наука? Связаны ли эти сложности с особенностями текущей политики и существующего законодательства? Если да, какие перемены помогут преодолеть эти сложности?
— В 1990-е гг. экономика страны ориентировалась на ресурсное развитие, и отношение к науке в те годы было соответственным. Сегодняшние проблемы уходят своими корнями именно туда. Они вполне понятны и примерно равнозначны с точки зрения остроты.
Первый вопрос — это кадры. Нам нужно восстанавливать собственную систему подготовки кадров без ориентации на зарубежные страны — неважно, Запада или Востока. Потому что хотим мы того или нет, но заложенная 300 лет назад в нашей стране триада «Академия — университет — гимназия» была лучшей в мире системой организации науки и образования и ее копировали многие государства. Поэтому тем, кто разбирается в этих вопросах, до сих пор не вполне понятно, зачем нужно было включаться в Болонский процесс.
Второй момент — это приборная база. Даже в советское время далеко не все технологии и приборы создавались внутри страны, многое закупалось за границей. А в дальнейшем, когда сократилось наукоемкое производство, сложностей стало еще больше.
Третья проблема — это ресурсы. Сейчас в Стратегии научно-технологического развития оговаривается, что мы должны довести ресурсное обеспечение научно-технической сферы до 2% валового внутреннего продукта (ВВП). Но это уже не первый документ, где есть это положение. Впервые оно прозвучало еще в 1996 г. в федеральном законе о науке, где было написано, что наука должна финансироваться в размере 4% от расходной части бюджета, что равняется примерно 2% ВВП. Получается, и в этом заключается суть проблемы: руководство страны уже не раз ставит задачу, но она не решается. Нужно четко понять, в чем причина таких трудностей.
Представляется, что основной принцип решения этих проблем должен звучать так: деньги идут за приоритетом. То есть если нам что-то необходимо, мы вкладываем деньги именно туда. Надо сказать, что в советские времена, с которых мы начали разговор, дела обстояли именно так. Когда нужно было решить те или иные стратегические задачи, например освоить атомную энергию, на развитие этих областей выделялись огромные ресурсы — может быть, даже в ущерб другим сферам, но другого выхода не было. И сейчас у нас тоже нет другого выхода: надо поднимать науку, технологии, промышленность.
— Есть ли какие-либо еще недостатки у современной российской политики в сфере научно-технологического развития, кроме уже названной вами проблемы несогласованности?
— В данном случае не имеет смысла говорить о недостатках. Проблема в том, что сейчас кардинально поменялась международная обстановка, активно формируется новый миропорядок. И в настоящее время нужно обсуждать не столько недостатки, сколько то, какую систему необходимо выстраивать для того, чтобы занять лидирующее положение в новом мирохозяйственном укладе. «Работа над ошибками», безусловно, нужна, но основной вопрос сейчас стоит о выработке принципиально новой политики. Если мы посмотрим, то все наши документы, регулирующие научно-техническую сферу, вырабатывались еще до событий, начавшихся в 2022 г., и введения беспрецедентных антироссийских санкций, хотя нужно отметить, что процессы глобальной трансформации начались значительно раньше. Власти, обществу, научному сообществу и бизнесу сейчас следует сообща решить, куда двигаться дальше, какую научно-техническую политику нужно вырабатывать.
Портреты президентов отечественной академии наук в здании Президиума РАН (на фото — академик С.И. Вавилов).
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
— Были ли у советской политики в области науки и технологий какие-либо важные особенности, которых сейчас недостает российским подходам?
— Советская система организации в целом отличалась высокой степенью ответственности. Когда человека принимали на работу, он четко понимал, что, как и в какие сроки должен делать. Это первое.
И второе: к управлению наукой привлекались высококвалифицированные специалисты, прошедшие все ступени научной лестницы. Вспомним, например, последних председателей ГКНТ СССР. Академик Гурий Иванович Марчук работал в Сибири, много сделал для атомной отрасли, заслужил звание академика, прошел все этапы научной карьеры, а затем стал председателем ГКНТ и президентом Академии наук СССР. После него председателем ГКНТ стал академик Николай Павлович Лаверов родом из Архангельска, тоже последовательно поднимавшийся по научной лестнице и возглавлявший в свое время академию наук Киргизской ССР. Впоследствии Н.П. Лаверов стал вице-президентом РАН.
Такой уровень подготовки руководящих кадров, очень широко видевших проблемы и ориентированных на государственные интересы, помогал получить достойные результаты. Сегодня у нас, к сожалению, немного ученых в системе государственного управления. Хотелось бы, чтобы их было больше.
— В начале 2024 г. была принята новая Стратегия научно-технологического развития России до 2030 г. Есть ли в ней, по вашим наблюдениям, какие-либо важные обновления в сравнении с прежней стратегией?
— Хотя в целом оба документа, на первый взгляд, похожи, но новая версия стратегии как раз говорит о переходе экономики страны к полному инновационному циклу.
На что хотелось бы обратить особое внимание — хотя в стратегии 2024 г. и оговаривается роль фундаментальной науки, но сейчас этот акцент необходимо усилить, сделать более выраженным. Почему? Повторю, что фундаментальная наука — это базовый институт развития. Исходя из этого, РАН должна позиционироваться как основной нефинансовый институт развития страны в дополнение к существующим финансовым институтам.
Почему это важно? Дело в том, что в РАН сосредоточен основной интеллектуальный потенциал. Во-первых, в члены академии проводится очень жесткий отбор. Как раз в конце мая пройдут очередные выборы. Во-вторых, члены РАН работают практически во всех отраслях народного хозяйства. Таким образом, здесь мы имеем возможность системно оценить любую существующую проблему. Этот потенциал необходимо использовать.
Что касается фундаментальной науки, то надо помнить, что она, пожалуй, представляет собой самое выгодное вложение капитала в стратегической перспективе. Еще Густав Кирхгоф (немецкий физик XIX в. — Примеч. авт.) говорил: «Нет ничего практичнее хорошей теории». И действительно: фундаментальная наука дает три практических выхода, причем с очень большой финансовой отдачей.
Первый — это образование: возьмите любой учебник и увидите, что оно целиком основано на фундаментальной науке. Таким образом, бюджет системы образования — не что иное, как коммерческое отражение результатов развития фундаментальной науки.
Второй выход — это технологии, поскольку все новые разработки делаются на базе фундаментальной науки. Например, мобильная связь построена на гетероструктурах, предложенных нобелевским лауреатом академиком Жоресом Ивановичем Алферовым.
Третий — это культура. И это самое главное, потому что именно на науке и фундаментальных знаниях строятся культура и традиционные ценности, о которых мы сейчас говорим. Но всегда нужно учитывать один нюанс: точно так же, как культура влияет на технологии, так и технологии влияют на культуру. Когда мы начинаем взаимодействовать с новой техникой, уровень нашей культуры меняется. Простой пример: сейчас наши дети стали играть в компьютерные игры больше, чем бегать с мячом на улице, — и это тоже элемент нашей культуры. Такая взаимосвязь порой оказывается сопряжена с очень большими проблемами.
— Как вы думаете, каков прогноз дальнейшего развития науки и технологий в России и соответствующей политики? Что нужно делать с точки зрения государственного управления, чтобы будущее научно-технологической сферы было максимально благоприятным?
— Как уже говорилось, наука должна стать базовым нефинансовым институтом развития страны. Сейчас это уже фактически принято на государственном уровне. Но надо понимать, что для достижения такого результата необходимо создать определенные условия.
Наивно думать, что фундаментальную науку полностью будет финансировать бизнес. Такие примеры есть, но это скорее исключения из правил, потому что предпринимательство ориентировано на получение прибыли если не сейчас, то завтра, а фундаментальная наука работает на послезавтра. С точки зрения стратегической перспективы больше всего в фундаментальной науке заинтересовано государство, а именно в тех трех ее выходах, о которых уже говорилось.
Должное признание фундаментальной науки и пропаганда ее развития должны помочь изменить отношение общества к научной сфере. Это позволит решить кадровые вопросы и остальные актуальные проблемы в обсуждаемой области. То же касается и предпринимателей, поскольку в стратегической перспективе выживет только тот бизнес, который сейчас вложится в фундаментальные науки. Например, можно вспомнить фирму IBM, вложившуюся в новые технологии: два ее сотрудника в результате стали лауреатами Нобелевской премии по физике. Если брать современность, то яркий пример такого подхода — Илон Маск, много вложивший в науку и получивший достойные научно-технологические результаты.
Таким образом, нам необходимо развивать фундаментальные исследования.
— Как вы уже сказали, сейчас стремительно развиваются новые направления науки и технологий, например искусственный интеллект, беспилотный транспорт, регенеративная медицина. Создает ли это какие-либо сложности для политики в научно-технологической сфере или она в целом всегда ориентирована на постоянное появление новых разработок?
— Именно на это она и ориентирована. Зачем повторять то, что уже было сделано до тебя? Наука и нужна для того, чтобы разрабатывать новаторские технологии на основе результатов исследований.
Но это сопряжено с определенной опасностью. Создавая новую технологию, мы должны четко понимать, каковы будут последствия: где она принесет пользу, а где — вред. Например, мы открыли атомную энергию, но первое применение она обрела в военной сфере и лишь затем стала широко распространяться в мирной энергетике. А сейчас ситуация существенно усложнилась, потому что стали появляться технологии с непредсказуемыми последствиями их использования. Поэтому уже на стадии подготовки инноваций мы должны давать оценку всех рисков, которые могут возникнуть в случае их внедрения.
«Среда обитания человека становится все более технологичной. И наряду с традиционной экологией пора говорить об экологии технологий», — отметил В.В. Иванов.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Возьмем тот же искусственный интеллект. Сейчас эту технологию использует огромное количество мошенников. А эффективных средств борьбы с такими нарушениями пока нет — законы, принимаемые сейчас, решают проблему лишь частично. И это лишь один из многих актуальных сложных вопросов, связанных с прогрессом: они могут возникать в разных сферах — от биологии до простой техники.
Вернемся к ИИ. Допустим, если автомобиль, управляемый им, попадет в аварию, кто будет платить за ущерб? Кто будет виноват в катастрофе? Здесь возникают и философские, и правовые вопросы. Поэтому необходимо четко определять меры ответственности в подобных сферах. Необходимо тщательно регулировать эти процессы, потому что, если они, не дай бог, перейдут в неуправляемую стадию, последствия могут быть катастрофическими.
И еще один момент. Среда обитания человека становится все более технологичной. И наряду с традиционной экологией уже пора говорить об экологии технологий.
— Вы упомянули решение о создании попечительского совета РАН. Могли бы вы немного подробнее описать возможности, которые дает эта инициатива?
— С момента своего создания академия наук всегда работала на высшие государственные интересы и подчинялась главе страны. И если мы посмотрим на другие структуры схожего плана, все они действуют примерно по такой же схеме. Например, попечительский совет МГУ возглавляет президент России. Таким же образом представители высшего руководства страны входят в попечительские советы всех наших ведущих государственных корпораций. Это необходимая мера.
Кроме того, у РАН есть еще одна особенность. По закону, в деятельность академии наук не имеет права вмешиваться ни один орган государственной власти. Возникает вопрос: кому она тогда должна подчиняться? Ответ прост: президенту Российской Федерации. Поэтому речь идет о том, чтобы РАН была интеллектуальным ресурсом, которым глава страны мог бы воспользоваться в любой момент.
Это решение играет и другую роль. Как уже говорилось, бизнес не всегда заинтересован в финансировании фундаментальных исследований. Но, так как в попечительский совет РАН вошли представители ведущих госкорпораций, теперь они смогут формировать задачи для ученых по интересующим их направлениям.
Но это мое личное видение. Посмотрим, как это решение будет реализовано на практике.
— Каких событий в области политики в сфере науки и технологий или, возможно, выхода каких законов ученые сейчас особенно ждут?
— Для начала посмотрим, как в окончательной редакции будут выглядеть законы о науке, о которых говорил М.В. Мишустин, потому что в процессе обсуждения в документы могут вноситься разнообразные правки. Другой актуальный вопрос, касающийся законотворчества в научно-технической сфере, — это разработка нового законодательства о науке. Хочется верить, что в работе над новым законом наладится продуктивное взаимодействие власти и ученых и объединенными усилиями мы обеспечим суверенитет и безопасность, выведя Россию в глобальные лидеры.