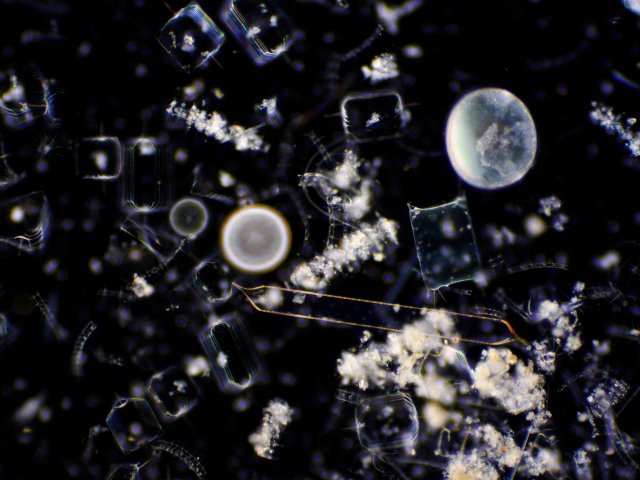В 2024 г. премию Правительства Москвы молодым ученым в номинации «Наука мегаполису» присудили заведующей лабораторией технологий ионообменных мембран МФТИ Софье Михайловне Морозовой за работу «Наноструктурированные полимерные материалы для мобильных накопителей энергии и нейроинтерфейсов для создания экологичного транспорта и повышения качества жизни жителей мегаполиса». Научный коллектив под ее руководством исследует и разрабатывает методы создания полимерных мембран, которые в перспективе будут применяться при сборке водородных топливных элементов, метал-ионных батарей и мемристоров.
Читайте в интервью о преимуществах полимерных мембран, развитии водородного транспорта и задачах, которые необходимо решить, чтобы сделать его доступнее.
Софья Михайловна Морозова
Фото: Елена Либрик / Научная Россия
Софья Михайловна Морозова ― кандидат химических наук, заведующая лабораторией технологий ионообменных мембран и кафедрой электрохимической энергетики Института Электродвижения МФТИ, лауреат премии правительства Москвы молодым ученым за 2024 г. В 2013 г. окончила химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2018 г. получила степень кандидата наук, защитив диссертацию «Ионные конденсационные полимеры». Стажировалась в Университете Страны Басков, работала в Лиссабоне и Торонто.
― За какие исследования вы получили премию правительства Москвы?
― Я работаю в области создания полимерных материалов и композитов на их основе: моя кандидатская диссертация была посвящена теме «Ионные конденсационные полимеры». В области фундаментальной науки о полимерах мне интересно разобраться, как работают полимерные композиты и как различные методы наноструктурирования формируют их свойства. Сейчас мои работы сфокусированы на ионной проводимости полимеров, исследования потенциально можно будет применять для создания топливных элементов для электротранспорта и мемристоров.
Раньше мемристоры делали только на неорганической основе, где за счет дефектов структуры происходит изменение проводимости. Мы же работаем над использованием полимеров как их основы. Мемристоры интересны как ячейки памяти будущего, которые могут находиться во многих состояниях, а не только в состояниях 0 и 1 (выключенном и включенном). Они, в частности, перспективны для создания нейроинтерфейсов, так как могут имитировать пластичность человеческого мозга. В этой области мы сотрудничаем с группой из Китая и готовимся подать совместный проект в РНФ.
В Институте электродвижения МФТИ разрабатываются различные виды транспорта на электротяге. Так, коллектив лаборатории технологий ионообменных мембран, которой я заведую, создает проводящие мембраны для создания водородных топливных элементов и металл-ионных батарей: литиевых, а в перспективе и натрий-ионных, которые можно использовать в электротранспорте.
― Какую функцию полимерные мембраны выполняют в водородных топливных элементах?
― Как устроен гальванический элемент? Цинковую и медную пластины помещают в растворы соответствующих солей (цинк — в раствор сульфата цинка, медь — сульфата меди), разделяют их полупроницаемой мембраной и соединяют проводником. В результате возникает электрохимическая реакция: электроны движутся по внешней цепи, а ионы мигрируют через раствор, замыкая цепь. Формируется замкнутый цикл, и происходят две полуреакции на электродах.
Аналогичный процесс лежит в основе водородного элемента. Водород реагирует с кислородом и разлагается с образованием воды и электронов. В отличие от гальванического элемента с жидким электролитом в топливном элементе применяется полимерная мембрана. Существуют и топливные элементы с жидкими электролитами, например щелочными расплавами. Но мой профессиональный интерес как специалиста по полимерам связан именно с механизмами транспорта ионов через полимерные мембраны.
Фото: Елена Либрик / Научная Россия
― В чем преимущества полимерных мембран?
― Полимерная мембрана позволяет топливным элементам работать при более низких температурах (80–100 °С), по сравнению с щелочными и твердооксидными аналогами (200 °С). Это позволяет применять такие элементы в транспорте.
А использование полимерных мембран в литиевых батареях обеспечивает безопасность их использования. При повреждении жидкий электролит может вытечь и загореться: возгорания электромобилей или мобильных телефонов связаны именно с взрывами литиевых батарей с жидким электролитом. Пленки, которые мы создаем, безопасны. Недостаток полимерных электролитов в том, что ионы двигаются медленнее, чем в жидкости, и мощность таких батарей ниже. Одна из основных задач ― добиться аналогичной мощности, которая косвенно связана с ионной проводимостью.
― Насколько широко эти технологии распространены в мире и в чем особенность ваших исследований?
― Еще в 1960-х гг. был создан полимер «Нафион», который используют как проводник в топливных элементах. Но за 50 с лишним лет водородный транспорт так и не заполонил планету. И сегодня ученые продолжают работы по улучшению свойств этого полимера. В первую очередь нас интересует ионная проводимость, то есть способность полимера пропускать ионы — носители заряда для замыкания электрохимической цепи. В СССР была разработана технология создания аналогичных полимеров и мембран, но в широкое производство она так и не вышла. Сегодня мы занимаемся тем, что можно назвать импортоопережением: мы восстановили технологию синтеза полимера, создаем из него мембраны и модифицируем их, чтобы добиться нужных свойств. В первую очередь это ионная проводимость, а также улучшенные механические показатели и стабильность работы в топливном элементе. Это научная составляющая исследований, которую дополняет технологическая: сборка самих топливных элементов на основе созданных нами мембран. Такую работу мы проводим совместно с индустриальным партнером и Институтом проблем химической физики и медицинской химии РАН: мы отправляем им мембраны, на основе которых они изготавливают и тестируют топливные элементы. Мы подали совместный проект в РНФ и сейчас ждем результатов.
Вторая часть работы связана с созданием литий-ионных батарей. Мы делаем принципиально новые мембраны из полимерных композитов, собираем в МФТИ сами батареи и тестируем их.
Фото: Елена Либрик / Научная Россия
― Вы упомянули термин «импортоопережение». В чем наше преимущество? Ведь в отличие от других стран в России пока нет отечественного водородного транспорта…
― Главное преимущество России всегда было в людях, занимающихся наукой. Да, у нас пока нет своего водородного транспорта, хотя за рубежом выпускается, например, Toyota Mirai. Но широкое внедрение такого транспорта ― это комплексная проблема.
Помимо создания самого топливного элемента, нужна масштабная инфраструктура, в том числе заправочные станции. А технологии получения дешевого водорода, его транспортировки и хранения ― это отдельные научные задачи, которыми в России занимаются серьезные группы ученых.
― На какой стадии сегодня ваши разработки? Это лабораторные прототипы или технологии, которые в скором времени будет возможно передать в широкое производство?
― Мы занимаемся фундаментальными исследованиями. К сожалению, у нас пока нет готовой технологии, которую можно непосредственно применить при создании водородного транспорта или транспорта на твердотельной литий-ионной батарее. Но у нас хороший потенциал для того, чтобы претворить это в жизнь.
Создание полимеров и мембран из них, производство самих топливных элементов и батарей, строительство инфраструктуры ― это параллельные процессы, которые происходят незаметно для простого пользователя. Даже я как человек, который состоит в электрохимическом сообществе и следит за научными достижениями и технологическими разработками, не заметила, в какой момент города заполонили электросамокаты и начали широко внедряться электромобили. А они стали так распространены именно потому, что ученые научились создавать батареи с необходимыми свойствами. Еще десять лет назад зарядки для электромобилей были диковинками, а сегодня они есть чуть ли не на каждой классической заправке. Возможно, через пять лет мы неожиданно обнаружим, что в повседневной жизни уже широко используется и водородный транспорт.
― Насколько дороги в производстве полимерные мембраны?
― Создание мембраны ― это 30–40% стоимости всего топливного элемента. И единственный способ сделать их дешевле в нынешних условиях ― это масштабирование.
― В чем сложности создания полимерных мембран? Какие характеристики надо улучшить, чтобы водородный и электротранспорт стали доступнее?
― Сложность работы по созданию мембран для водородных топливных элементов в том, что значительная часть информации не публикуется в научных статьях ― многое скрыто в патентах и ноу-хау. И мы в рамках работы молодежной лаборатории публикуем не все результаты.
Приоритетная задача ― это повышение ионной проводимости. Другая важная характеристика мембран ― механическая стабильность. Один из способов производства топливных элементов ― сборка под давлением: когда катализатор спрессовывают с мембраной, она должна выдержать это давление. Еще один важный параметр материалов связан с деградацией. В топливных элементах присутствуют сильный восстановитель водород и сильный окислитель кислород ― это агрессивная среда, в которой любой материал будет деградировать. Поэтому важно увеличить стабильность мембран и повысить количество циклов, в течение которых она будет работать в топливном элементе. Мы разрабатываем различные добавки для полимера и способы улучшения самих мембран, чтобы предотвратить эту деградацию.
Сейчас у нас есть два образца: один показывает потрясающую мощность, превосходящую коммерческие аналоги «Нафиона», но работает только три цикла. Другая мембрана втрое менее мощная, чем коммерческие образцы, но позволяет топливному элементу работать значительно дольше ― до 1 тыс. циклов.
Конечно, хочется одновременно добиться и высокой мощности, и устойчивости к деградации, но пока приходится искать баланс.
Фото: Елена Либрик / Научная Россия
― Есть ли фундаментальное понимание того, что необходимо делать для увеличения стабильности и мощности?
― Конечно, улучшение свойств связано с внедрением специальных наночастиц. Эта стратегия описана в литературе, и мы проводим подобные работы. Сложность в том, что большинство полимерных мембран сегодня производят на основе «Нафиона» и известная информация касается этого материала. Мы же используем его аналог «Аквион» с более короткой цепью.
Мы также разрабатываем методы улучшения синтеза полимеров и контроля качества, чтобы работать с материалами, соответствующими необходимым параметрам.
В сентябре 2024 г. в МФТИ открылась новая кафедра электрохимической энергетики и мы провели первый набор магистров по программе «Мобильные накопители энергии». То есть мы начинаем готовить инженеров и научных сотрудников, которые будут разбираться именно в применении мембран и других элементов для развития электротранспорта.
― Вы много работали за рубежом. Почему в итоге решили вернуться в Россию?
― Я проходила несколько трехмесячных стажировок в Университете Страны Басков в группе профессора Давида Мекерьеза, который исследует ионные полимеры для их применения в электротранспорте, биологии и создании нейроимплантов. Работала также в Лиссабоне в группе профессора Изабели Маручи, где изучала ионные полимеры с точки зрения газопроницаемости. И около года сотрудничала с группой профессора Евгении Эдуардовны Кумачевой в Торонто, там мы проводили фундаментальные исследования по формированию мягких материалов на основе полимеров и наночастиц.
Действительно, у меня достаточно богатый опыт работы за рубежом, но в России жить и работать комфортнее. Я родилась и выросла в Москве, и, сравнивая с опытом жизни в других странах, могу сказать, что у нас очень хорошо развита бытовая инфраструктура, например дороги, развлечения, спорт, транспорт и доставка. К этому привыкаешь, и, узнав, что в другом месте все не так, сложно приспособиться.
― Почему вы выбрали химию?
― Я получила хорошее базовое образование в физико-математической школе № 1189. В десятом и 11-м классах раз в неделю занятия проходили в Курчатовском институте, где преподавали научные сотрудники. Мои родители окончили физфак МГУ им. М.В. Ломоносова, и я тоже хотела поступить в Московский университет. Но физика мне нравилась меньше, а математику я считала исключительно фундаментальной наукой без прикладного применения. Тогда отец порекомендовал мне поступать на химический факультет, и это подтолкнуло меня к окончательному решению.
― Заведуя лабораторией в МФТИ, вы работаете с молодежью: студентами и аспирантами. Как оцениваете их уровень подготовки и видите ли, что стоит изменить в образовании?
На химическом факультете МГУ я получила качественное базовое образование и работала в лаборатории с первого курса. Сейчас сложно сказать, было ли это ошибкой, но сейчас ко мне в лабораторию тоже приходят ребята и с третьего, и даже с первого курсов. Они действительно хотят работать, и я это поддерживаю, но только если работа не мешает учебе.
При этом мне кажется, что сейчас растет достаточно негативная тенденция на внедрение науки со школьной скамьи. И это может вредить базовому образованию. Чтобы студент стал хорошим специалистом, он должен получить крепкие базовые знания, в том числе понимание математики и физических основ, поэтому мне бы не хотелось, чтобы школьников с пятого по 11-й класс активно привлекали к научным проектам. Школьные годы ― это то время, когда есть возможность сосредоточиться на чистом знании, запоминать материалы и тренировать мозг, как мышцу.
В школе говорят: «Выучи это, это и это, и будешь молодцом». В университете говорят иначе: «Ты можешь выучить это, это и это, а затем сам решай, что тебе нужно учить, чтобы стать хорошим специалистом». Чтобы произошел качественный переход и человек сам понял, что ему требуется выучить без подсказки сверху, нужен крепкий фундамент школьных знаний.
Поэтому я считаю, что в школе и на первых курсах вузов надо сосредоточиваться именно на образовании, потом такого шанса не будет. Но именно эта база позволит в будущем находить общий язык с коллегами, работающими в смежных направлениях. Сегодня студентам за научные работы дают какие-то бонусы, даже планируют сделать ее обязательной. Но это не должно быть занятием под давлением и ни в коем случае не должно вредить учебе.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.