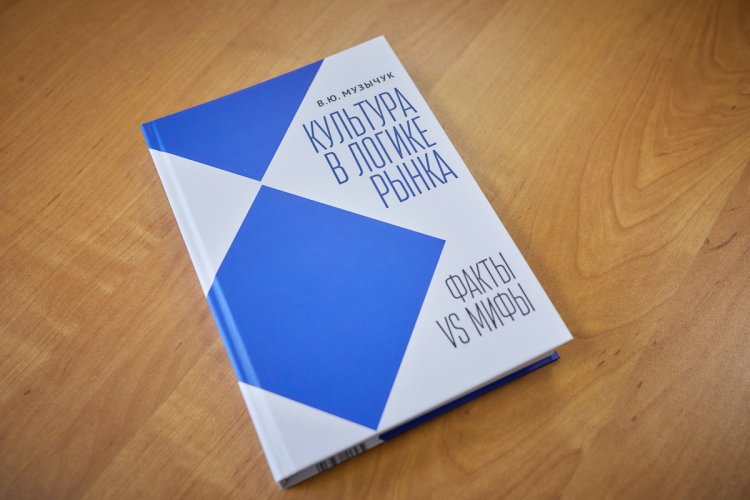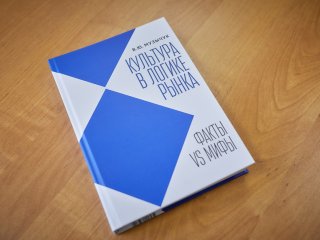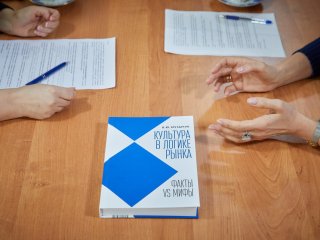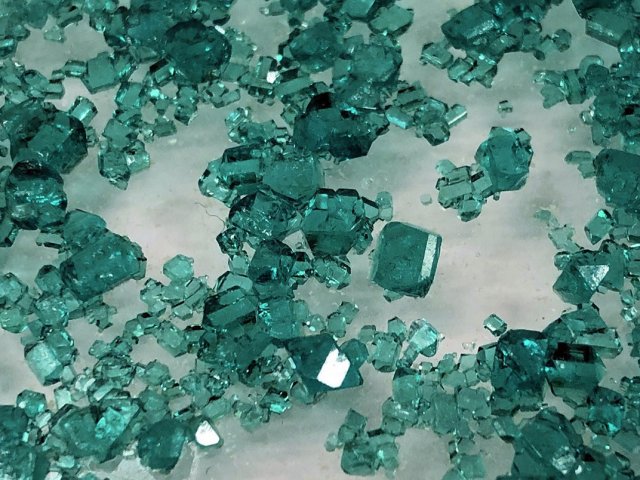Расходы на культуру — это не расходы на досуг или приятное времяпрепровождение, это жизненная необходимость государства, если оно хочет развивать инновации и быть впереди, иметь экономический рост. Расходы на культуру — это инвестиции в собственное будущее. Обсуждаем эти вопросы с доктором экономических наук Валентиной Юрьевной Музычук, доцентом, заместителем директора Института экономики РАН, профессором продюсерского факультета Школы-студии МХАТ, главным научным сотрудником Государственного института искусствознания.
Светлана Анатольевна Братченко и Валентина Юрьевна Музычук
Фото: Елена Либрик / Научная Россия
— Тема нашего обсуждения не просто интересная, а, на мой взгляд, актуальнейшая: экономика культуры. Она находится на стыке гуманитарных и общественных наук. Валентина Юрьевна, вы специалист в области экономики культуры. Так сложилось, что к гуманитарной и общественной проблематике обычно относятся как к чему-то менее заслуживающему внимания. Как ученый, занимающийся именно этой проблематикой, скажите, пожалуйста, действительно ли получаемые результаты менее значимы, чем в других областях наук?
— Я занимаюсь действительно достаточно редкой областью экономической науки — экономикой культуры. И иногда я себя на самом деле ощущаю, как «свой среди чужих, чужой среди своих». Почему? Потому что культура — это про гуманитарные науки. И здесь, конечно, я не обладаю той глубиной, широтой знаний, которыми обладают культурологи, искусствоведы, те, кто занимаются культурной антропологией... С другой стороны, экономика — это общественная наука. И здесь важно, как накормить народ, как его одеть, обуть. Экономика — это наука об устройстве нашей жизни. Так вот, если говорить об экономике культуры, по аналогии это система обеспечения сферы культуры. То есть что должно быть, как должно развиваться, чтобы у нас формировалась культурная среда. А что такое культурная среда? Это инфраструктура культуры: когда ты можешь прийти туда, где ты можешь заниматься творчеством, культурной деятельностью; это люди культуры, носители культурного кода, которые могут тебе его передать; и это культурный контент, то есть массив информации, который касается культуры.
Я прекрасно понимаю, что с точки зрения большой экономики я занимаюсь некоей не очень серьезной областью экономики. Одно дело — промышленная политика или все, что связано с банковской деятельностью… Это важно. А я вроде как занимаюсь очень узкой отраслевой темой. Но это абсолютно неправильный взгляд. Экономика культуры высвечивает все те проблемы, которые есть в экономике социально значимых отраслей, ответственных за развитие человеческого потенциала. В сфере культуры существует огромная масса проблем, связанных с реформой бюджетного сектора, практически та же самая, что и в экономике здравоохранения, в экономике образования, в экономике фундаментальной науки. Кстати говоря, мы находимся в стенах академического института с 95-летней историей. В этом году Институту экономики РАН исполняется 95 лет.
В этой связи, конечно, было бы очень правильно сместить фокус внимания на те экономические особенности, которые связаны с развитием человеческого потенциала. И, как мне кажется, в настоящее время недооценена как культура, так и экономика культуры. Наработки теоретического, практического характера, которые есть в экономике культуры, в общем-то, не видны. Такое ощущение, что мы это делаем в своем тесном мирке и с точки зрения большой экономики это ни для кого не представляет интереса.
— Вы произнесли, на мой взгляд, очень важные слова о том, что экономика культуры и сама культура недооценены. Таким образом, из самого слова «недооценка» следует, что у нас есть какая-то функция культуры, задача культуры или оптимальный уровень развития культуры. И, соответственно, текущее состояние не соответствует этому предназначению культуры, ее роли в обществе. Я хотела бы, чтобы вы остановились подробнее именно на этой дихотомии. И поскольку здесь получаются два вопроса, начнем с функций культуры.
— Прежде всего: что такое культура? Есть тысячи, десятки тысяч определений. На самом деле не хочется заниматься таким наукообразием. Что такое культура в двух-трех словах? Как из общественного животного сделать человека. Вот это — основная задача культуры: очеловечивание человека. А дальше уже можно говорить о многом. В зависимости от того, чем человек занимается, он высвечивает для себя какие-то важные стороны, функции культуры. В рамках экономики культуры очень важны три, на мой взгляд, основополагающие функции культуры.
Первая — это передача социального опыта, социокода в терминах академика Вячеслава Семеновича Степина, многолетнего директора Института философии РАН, который занимался философией культуры. Как он трактует культуру? Как надбиологические программы жизнедеятельности человека. С одной стороны, у нас есть генетические, биологические программы, с другой стороны, культура — надбиологические программы жизнедеятельности человека.
Сейчас очень модно говорить о культурных кодах. Декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Александрович Аузан занимается очень интересной областью исследований — культурными кодами экономики. Даже такое есть. Но, казалось бы, если эти социокоды (в терминологии академика В.С. Степина) не наследуются генетически, как мы тогда можем говорить о культурных кодах? Есть некая аналогия с генами, с генетическим кодом. И здесь нам приходит на помощь культурная нейронаука. Речь идет о нейронных связях, которые формируются в мозге. И ученые даже говорят о том, что мозг имеет биосоциальную природу, он формируется под воздействием того культурного контента, в котором живет человек. Для того чтобы у людей формировались эти культурные паттерны поведения, должны развиваться нейронные связи. А для того, чтобы они развивались, нужна культурная среда, а именно инфраструктура культуры, люди культуры и культурный контент.
Вторая очень важная функция и для экономики культуры, и вообще для жизни — это прогностический потенциал культуры. Люди с творческим мышлением обладают этим vision, то есть видением будущего. Мы все знаем катастрофу «Титаника», но мало кто знает, что до этого, буквально за несколько лет была опубликована книга, в которой была описана эта катастрофа (новелла Моргана Робертсона «Тщетность» (1898). — Примеч. ред.). Вот это видение будущего. Если мы хотим заглянуть в будущее, то нам обязательно нужно развивать творческий компонент.
И третья очень важная функция — культура как иной способ познания окружающего мира. Мы считаем, что познаем мир только с помощью научных методов. Вот, пожалуйста, те самые естественные науки, о которых мы с вами говорили. Если солнце скрыто тучами, это не значит, что его нет. И мир познается не только рациональным мышлением. Для того чтобы оценить всю красоту мира, к рациональности науки мы должны добавить иррациональность искусства. Здесь задействованы совершенно другие структуры мозга. И, мне кажется, благодаря именно этой роли культуры мы сможем продвинуться дальше как социальные животные.
Фото: Елена Либрик / Научная Россия
— Это про функцию культуры. Тем не менее мы сейчас живем в таком прагматичном мире, и даже, пожалуй, на наших глазах мир становится все более и более прагматичным. С точки зрения государства есть ли какие-то более рациональные основания для того, чтобы поддерживать и развивать культуру?
— Вы знаете, что касается рациональности, я думаю, что сейчас у нас какой-то ужасный крен в экономическую эффективность. Экономический подход проникает во все сферы нашей жизни. За что мы ценим наше все — Александра Сергеевича Пушкина? С точки зрения сегодняшних чиновников финансово-экономических ведомств, получается, что главная ценность человека — это сколько он может привнести добавленной стоимости. Но ведь добавленная стоимость может быть материальной, а может быть нематериальной. И как раз эту нематериальную «добавленную стоимость» очень трудно подсчитать. А может быть, и вообще не надо? Мы знаем, что после смерти А.С. Пушкина царь оплатил его долги из казны. И это было порядка 140 тыс. Если мы будем судить с позиции того, сколько он нажил в своей жизни, то он, в общем-то, лузер. Это если мы смотрим с позиции экономической эффективности. А если мы рассматриваем его творческое наследие, его вклад в русскую культуру, в развитие русского языка, то Пушкин остается нашим всем.
Каким мерилом мы меряем? И мне кажется, что крен в экономическую эффективность — это губительный путь. Мир краше, богаче, и нужно отходить от этой экономической логики, если мы хотим сохраниться как биологический вид.
Вы задали вопрос насчет государства. Наверное, уже с 2015 г. государство прилагает усилия для того, чтобы вернуть в информационную и культурную повестку вопрос о ценностях. И сейчас говорят о необходимости сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это важная вещь. Но здесь надо понимать, что благой цели нельзя достичь не совсем благими средствами. Сейчас в экономике культуры сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, государство говорит об этих традиционных ценностях, о необходимости их развития, сохранения. С другой стороны, то же самое государство своими директивными установками выдавливает сферу культуры в рынок. А некоммерческим организациям культуры, которые занимаются неприбыльной деятельностью, говорят: «Вы должны больше зарабатывать». Поэтому здесь надо как-то определиться: вы все-таки про ценности или про зарабатывание? По-другому никак.
Фото: Елена Либрик / Научная Россия
— Да, очень важная дилемма... Культура — это не только наш досуг и наше личное развитие. Мы все время говорим об инновациях, экономическом развитии. Так вот, без культурной личности не может быть экономического развития. Расходы на культуру — это инвестиции в свое собственное будущее. Вы начали говорить о том, что есть миссия государства, а реалии несколько отличаются. И вот как раз тоже очень важно понять: что у нас не так в области поддержки культуры?
— Я хочу немного вернуться назад, вспомнить тех самых физиков и лириков. Для меня до сих пор удивительно, но ведь были времена, когда спортивные стадионы могли ломиться от публики, которая слушала поэзию. Это удивительная вещь. При этом мы совершенно точно знаем, что огромное количество ученых, занимающихся естественными науками, не чужды искусства. Кто-то играл на музыкальных инструментах, того же Эйнштейна вдохновляла игра на скрипке, и таких примеров действительно очень много.
Поэтому, мне кажется, мы с разных сторон идем к одной и той же цели. А цель какая? Познание мира. И не только познание, а все-таки быть счастливыми в этом мире и быть благодарными за ту красоту, которая вокруг нас.
Если говорить о государственной поддержке культуры, то у нас происходит какая-то демонизация государственного финансирования: государство — диктат, государство душит творческие проявления… И здесь мы должны совершенно четко отдавать себе отчет, что за 20 с лишним лет мы так и не построили в России многоканальную систему финансирования культуры. Так вот получилось. И здесь не надо себя обманывать: никакого другого, кроме бюджетного, финансирования не существует. Бюджетные деньги занимают важное место в культурном бюджете страны, если она позиционирует себя как страна с богатыми культурными традициями.
Если мы говорим об организациях культуры, то помимо государственных денег они зарабатывают сами, продают билеты и т.д. Кроме этого есть, конечно, благотворительная поддержка, которая делится в основном на два канала: поддержку бизнеса, крупных корпораций и так называемую низовую благотворительность. Низовая благотворительность — это когда каждый из нас как гражданин приходит в организацию культуры не только как потребитель, покупающий билет на концерт, выставку в музее, но своим волонтерским трудом или какой-то благотворительной поддержкой помогает любимому учреждению.
Конечно, многоканальная система финансирования — это идеальная ситуация, потому что ты не зависишь от одного, условно говоря, якорного патрона. Уже оскомину набила известная всем фраза: «Кто платит, тот и заказывает музыку». Когда у тебя есть только один якорный патрон, один источник финансирования, то здесь возможны разные волюнтаристские решения.
Мы можем много говорить о том, почему не состоялась эта многоканальная система финансирования и как важно, чтобы она состоялась. Но все-таки надо исходить из реальной ситуации. Я больше 25 лет занимаюсь экономикой культуры и прекрасно понимаю, что в настоящее время в России никакой альтернативы бюджетному финансированию нет. Если мы посмотрим по видам культурной деятельности: театры, музеи, библиотеки, дома культуры и т.д., — то самые привлекательные возможности для зарабатывания денег есть у театров. Если мы проанализируем их бюджет в среднем по стране, то получается такая картина: из 100% финансового обеспечения театров 70% — это бюджетное финансирование и 30% театры зарабатывают сами. Мы должны совершенно четко понимать, что одно дело — Большой театр, Мариинский театр, какие-то крупные театральные институции, расположенные в центре экономически развитых городов, где объем бюджетных и внебюджетных средств может варьировать (у нас есть очень успешные театры, у которых, условно говоря, 40% — бюджетное финансирование, а 60% они зарабатывают сами); и другое дело — например, театры республик Северного Кавказа, где в общей сумме финансовых поступлений 90% занимает бюджетное финансирование.
Когда мы говорим о проблемах культуры, мы прекрасно понимаем, что в центре экономически развитых городов с культурой, в том числе и с экономической точки зрения, более или менее все в порядке. Когда мы рассуждаем о проблемах культуры, мы прежде всего имеем в виду нашу большую страну. И для меня как человека, который занимается экономикой культуры, очень важно, чтобы была шаговая доступность, возможность приобщаться к культурным ценностям. Чтобы была инфраструктура культуры и люди культуры оттуда не уезжали. И культурный контент, который из общественного животного делает человека. Вот это важно.
Если говорить о проблемах настоящего времени, то одну из них я уже затронула: это коммерциализация сферы культуры. И здесь складывается абсолютно та же самая история, что и с коммерциализацией в здравоохранении, в образовании. Ну и, что греха таить, с коммерциализацией в фундаментальной науке. Коммерциализация — это про что? Это про сиюминутность. Ты должен выдать результат здесь и сейчас на-гора. А в культуре не так. У тебя результат может быть через 20 лет, через 50, а может быть через 100 лет. И если ты через монетарную составляющую оцениваешь то, что принесет пользу через 20–30 лет, то получается, что сейчас это абсолютно неэффективно и не нужно.
Сейчас 2025 г., но та бюджетная реформа, которая стартовала в начале 2000-х гг., проходит ровно по тем же лекалам, по которым она запускалась в 2000 г. И меня беспокоит, что этой коммерциализацией культуры занимается само государство. То есть как будто есть одна часть государства, постулирующая важность традиционных ценностей, но при этом есть другая часть государства, которая говорит: «Нет-нет-нет, давайте больше зарабатывайте». Для меня было совершенно удивительным интервью руководителя Департамента культуры города Москвы, который перешел на этот пост после того, как много лет возглавлял Департамент инвестиционной и промышленной политики. И в этом интервью (причем это знаковое интервью при вхождении в должность) он говорит, что самый главный критерий для работы в сфере культуры — это выручка. Я была в шоке. То есть нет никакой культурной миссии, нет никаких культурных акцентов. Самое главное — это KPI. И вот сейчас мы будем оценивать: театр зарабатывает деньги, значит, это хороший театр. А если ты не зарабатываешь деньги, значит ты плохой театр, неэффективный. Вот это меня сейчас очень настораживает. И я думаю, что надо очень внимательно относиться к этим случаям коммерциализации. Есть крылатое выражение: «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». И то, что пройдет, допустим, в Москве, не пройдет в регионах. Но ведь кейс Москвы, который показывает курс на коммерциализацию культуры, потом будет масштабироваться в других регионах. И мы прекрасно понимаем, что, отъехав 50 км от Москвы, вы увидите совершенно другую картину, нежели в Москве.
Я понимаю, что центральный сюжет экономики — это ограниченность ресурсов. И понятно, что на все не хватает. Но тогда надо не распылять эти средства. Нужно смотреть, где они нужны сейчас, в данный конкретный момент. Мне сейчас почему-то вспомнилась Елена Сергеевна Вентцель. Ее все знают, она математик, доктор технических наук, много лет работала в Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. Все знают ее учебник по теории вероятности. Но мало кто знает, что она еще и писала художественные произведения под псевдонимом И. Грекова. И по ее сценариям были сняты несколько советских фильмов. Когда стали оценивать образцы вооружения, военной техники по критерию минимальных затрат на производство, она якобы произнесла фразу: «Тогда мы можем подешевле проиграть войну». Поэтому если у нас такое мерило, тогда, соответственно, мы действительно можем подешевле просто профукать всю нашу культуру. Простите за такие просторечные слова.
— Но государство поддерживает культуру. Например, был нацпроект «Культура». Сейчас продолжают поддерживать. Роль этой поддержки заметна, значима. Нацпроект у нас появился в 2018 г., и в конце 2024 г. даже говорили, что его продлят до 2030 г. Но, к сожалению, в 2024 г. он закончился.
— Я каждый раз говорю, что любая дополнительная копейка в сферу культуры — это благо. Другой вопрос, что вы строите нацпроект не по проектному принципу, а таким образом, что он состоит, к сожалению, из текущей деятельности Минкультуры и органов управления культурой. Мы реально видим ту самую текучку, которая все равно бы выполнялась, независимо от того, есть у нас нацпроект или нет. Одним из самых главных показателей нацпроекта взяли повышение посещаемости. В первоначальной версии нам сказали, что мы должны увеличить посещаемость на 15%, а потом сказали: нет, давайте будем повышать посещаемость в три раза. Я всегда говорю своим студентам на продюсерском факультете в Школе-студии МХАТ: «Дьявол в деталях». Как считается эта посещаемость? Например, по итогам 2023 г. отчитались, что у нас 2,7 млрд посещений культурных мероприятий. Что это? Какое грамотное управленческое решение можно принять на основании этой статистики?
— И что туда включается?
— Мы смотрим методику расчета этого показателя. И оказывается, что мы можем суммировать мух и котлеты. Потому что у нас в одном флаконе с реальной посещаемостью учитывается виртуальная (онлайн-посещаемость). С точки зрения здравого смысла мы прекрасно понимаем, что я могу нарисовать выполнение любого показателя, построенного по такому принципу. Другая ситуация связана с тем, что деньги все равно были потрачены. И если мы об экономике, то на основании этого показателя как понять, насколько эффективно были потрачены эти деньги? Проблема в том, что в рамках нацпроекта, к сожалению, произошло размывание средств. Я понимаю, что «всем сестрам по серьгам». Но когда реализуется нацпроект, то важно все-таки задать какие-то приоритеты. Сказать, что сейчас у нас один из важных приоритетов вот такой, и пустить деньги на выполнение именно этой задачи. Заканчивается один период, начинается следующий. И мы фокусируемся на какой-то еще одной глобальной задаче. В рамках этого нацпроекта получилось «все обо всем и сразу». Поэтому сказать, что были какие-то конкретные результаты от прошедшего нацпроекта, к сожалению, не представляется возможным.
— Мы говорили в основном с точки зрения сверху, с точки зрения государства. Тем не менее мне хочется акцентировать внимание на том, что происходит снизу. У нас есть институты гражданского общества, местное самоуправление... Снизу что у нас происходит? Есть какая-то надежда?
— Мы должны понимать, что если мы берем государственные учреждения культуры, то 85% — это муниципальное звено. Если мы говорим о федеральных учреждениях культуры, то это всего 2–3%. И еще небольшая прослойка учреждений культуры, учредителями которых выступают органы управления культурой субъектов Российской Федерации. Поэтому культурная повестка в общем-то муниципальная. Это порядка 40 тыс. домов, дворцов культуры, 38 тыс. общедоступных библиотек, 5 тыс. детских школ искусств. Это на самом деле большое хозяйство. Другой вопрос, хватает там денег или не хватает.
Я больше 25 лет занимаюсь и зарубежным опытом, изучаю разные другие механизмы финансирования поддержки культуры. Но практика показывает, что сильный муниципальный бюджет — это залог благоприятного развития культуры на местах. У нас сейчас проводится реформа местного самоуправления: встраивание местного самоуправления в вертикаль власти, так называемые органы публичной власти; укрупнение муниципальных образований. Мы видим своего рода централизацию. И эта централизация, укрупнение происходит и в сфере культуры. Если государство идет по пути централизации, тогда и ответственность за развитие культуры оно должно взять на себя.
У нас есть институты гражданского общества, профессиональные союзы, общественные организации в сфере культуры. И, конечно, основная проблема — опять-таки тот самый финансовый фактор: не выстроена институциональная среда. Если бы у нас были кредиты с низкой ставкой, то, условно говоря, разным частным и общественным организациям можно было бы как-то перекантоваться.
Кстати, мне бы хотелось в связи с вашим вопросом немножко вернуться к началу нашего разговора. Я сказала, что происходит коммерциализация культуры, причем эту повестку усиленно проталкивает само государство. Но складывается еще одна парадоксальная ситуация. Малый бизнес, средний бизнес — это та самая капиллярная система экономики, которая при благоприятной экономической конъюнктуре как раз и поставляет благотворительные средства для развития той же сферы культуры. Но экономическая среда, та экономическая конъюнктура, в которой мы сейчас живем, не способствует развитию малого и среднего бизнеса. Если в целом малый и средний бизнес в стране не развиваются, то почему этот малый и средний бизнес будет развиваться в сфере культуры? Почему вдруг организации культуры будут «заколачивать большую деньгу»? Мы прекрасно понимаем, что предпринимательскими способностями обладает не так много людей: это 8–10% населения. А та повестка, которая сейчас раскручивается вокруг креативных индустрий по поводу того, что люди будут заниматься предпринимательством в сфере культуры, говорит о том, что коммерческий потенциал сферы культуры переоценен. Если мы говорим о моде, о высокой кулинарии, о дизайне, безусловно, каждая из этих областей несет в себе культурный пласт. Но это не та самая сфера культуры, низовое звено которой не выживет без финансирования государства. Мы точно должны отдавать себе в этом отчет.
— Еще один вопрос по такой модной теме цифровизации. Как же мы можем сейчас обойти цифровизацию? Понятно, что прогресс не стоит на месте.
— Мне кажется, что это замечательный дополнительный ресурс приобщения к культуре. Другой вопрос, что мы все время пытаемся заместить реальное посещение виртуальным. Если мы упраздним все библиотеки, дома культуры и детские школы искусства, все переведем в цифровой формат, то с точки зрения экономии бюджетных средств, конечно же, мы выполним задачу. Если мы говорим о развитии культуры, если все-таки мы хотим, чтобы граждане были не только экономически активными, а еще и культурно развитыми, то здесь обязательно нужна инфраструктура культуры. Поэтому в добавление это, безусловно, очень ценный ресурс, но ни в коем случае не в замещение.
Мы живем в крупном городе, мегаполисе, у нас есть разные культурные учреждения, куда мы можем сходить. Но если отъехать 50–100 км от Москвы, там совершенно другие реалии. И нужна библиотека, в которую можно прийти. Нужен дом культуры, в котором можно чему-то научиться. Нужна детская школа искусства, чтобы заниматься творчеством. И это должно быть обязательно в шаговой доступности. Вот та самая культурная среда.
Что касается оцифровки книжных фондов, возможности удаленного доступа к этим источникам — это замечательная вещь, но не в замещение живого приобщения к культуре.
— И последний, наш любимый русский вопрос. Что же делать? Совсем вкратце — ваши рекомендации, ваше видение.
— Что делать? Прежде всего просвещать. Не нужно мерить все только экономической эффективностью. Нужно понимать, что есть области человеческой деятельности, которые не вписываются в рыночный контекст. Не надо тащить сферу культуры в рынок. Есть даже такое словосочетание: «коррозийные свойства рынка». Рынок не инертен. Имманентные ценности, присущие культурной деятельности, сфере культуры, начинают трансформироваться в рыночные ценности. Если основная задача театра — стопроцентная посещаемость, тогда вы должны понимать, что на легкий жанр придут быстрее, нежели на что-то серьезное, что требует глубокого погружения, внутренней работы над собой. Поэтому просвещение, просвещение и еще раз просвещение.
— Надеюсь, мы с этой задачей справимся. Большое спасибо, Валентина Юрьевна. Очень интересно, важно и актуально.
Беседовала Светлана Братченко