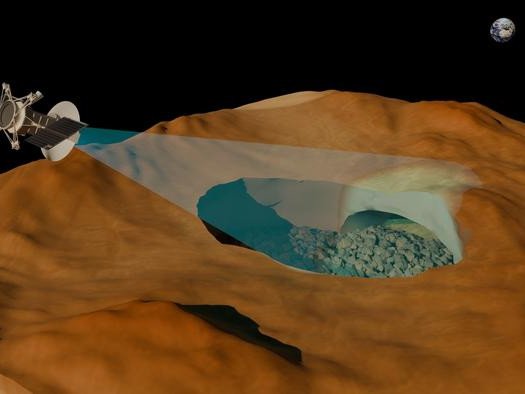Как начиналась наука патологическая анатомия? Что она представляет собой сейчас? Почему без нее невозможны ни правильная диагностика, ни своевременное лечение? Об этом рассуждает академик Георгий Авраамович Франк, заведующий кафедрой патологической анатомии Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования, главный внештатный специалист по патологической анатомии Минздрава РФ.
Георгий Авраамович Франк. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
Георгий Авраамович Франк — академик, член Международной академии патологов. Доктор медицинских наук, профессор. Главный патологоанатом Минздрава России, заведующий кафедрой патологической анатомии и руководитель Центра контроля качества иммуногистохимических исследований ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Первый вице-президент Российского общества патологоанатомов, член правления Российского общества онкоурологов, главный редактор журнала «Архив патологии». Заслуженный деятель науки РФ. Награжден Европейским орденом им. Н.И. Пирогова, российским орденом Пирогова.
— Георгий Авраамович, у вас никогда не было сомнений, в какую медицинскую специальность идти? Или, может быть, вы хотели быть хирургом?
— На этот вопрос могу ответить четко: желание стать хирургом было в течение очень короткого периода — где-то в конце четвертого и начале пятого курса. Начинал я в научном студенческом кружке на третьем курсе, а на четвертом сделал первую научную работу по патанатомии.
— О чем она была?
— Она была посвящена ошибкам в диагностике рака желудка и легкого при жизни и после вскрытия: где неправильно ставили диагноз рака и где не ставили диагноз, а он оказывался на вскрытии. Такой материал я собрал по нескольким больницам, и такая работа была опубликована.
— И вы после этого решили идти в патанатомию?
— После этого я пошел в хирургию, дежурил по ночам, делал простейшие операции: аппендицит, ушивание язвы. Уже в конце пятого курса меня встретил во дворе института профессор Дмитрий Иванович Головин, который был моим первым учителем патанатомии. Он сказал: «Говорят, ты в хирургию подался? Так это же портняжное дело — там отрезать, там пришить, скроить. Приходи в патанатомию, я из тебя человека сделаю».
— Это, конечно, для врача звучит спорно, потому что все-таки профессия врача направлена на то, чтобы помочь человеку, спасти жизнь, вылечить. А ваша профессия на что направлена?
— Именно на это.
— Каким образом можно помочь человеку, который умер?
— Она направлена таким образом, чтобы поставить правильный диагноз. Кто правильно диагностирует, тот правильно лечит — была такая мудрость. Ошибочно думать, что мы занимаемся только умершими. 95% нашей работы — это прижизненные исследования. Хотя действительно, раньше патанатомия была аутопсийной, секционной.
— О чем гласит знаменитый анекдот: «Доктор, что со мной?» — «Вскрытие покажет».
— Да. Это происходило у нас в стране в послепетровские времена, когда врачам госпиталей было предписано проводить посмертные исследования тел умерших больных, чтобы выяснить, правильно ли ставился диагноз, почему умер и что сделано неправильно. Такая была инструкция. Одним из первых наших прозекторов был профессор Николай Иванович Пирогов, который заведовал хирургической клиникой в Военно-медицинской академии и одновременно вел прозекторскую работу. Потом появились свои кафедры патанатомии. Новейшая история патанатомии у нас в стране, в Москве связана с именами профессоров М.Н. Никифорова, А.И. Абрикосова, А.И. Струкова, ну и потом более молодые: профессора В.В. Серов, Н.А. Краевский, А.В. Смольянников. Уже в то время, когда я начинал работать патологоанатомом, у нас произошло большое разделение, и считалось, что патологоанатомы, работающие в онкологических учреждениях, в основном занимаются исследованием биопсии и операционного материала. Биопсию тогда можно было взять совсем не из любого места.
— А сейчас из любого?
— Практически нет такой ткани, из которой нельзя было бы взять кусочек при жизни, отдать патологоанатомам, которые определят, есть там опухоль или нет, доброкачественная она или злокачественная, к какому виду относится. Более того, сегодня мы решаем вопросы совсем нового порядка — вопросы прогноза. Если это злокачественная опухоль, каков ее прогноз, какова степень злокачественности, дифференцировки, — это очень важные вещи. Осуществляем также предикцию, то есть предсказание чувствительности к различным лечебным воздействиям.
— Наверняка изменились и методики, которые вы применяете для такого рода диагностики.
— Вы абсолютно правы. Если раньше были простейшие методики, то сегодня все изменилось коренным образом. Я уж не говорю про автоматизированные, роботизированные устройства, которые пришли к нам в специальность. Новые технологии — это не только рутинные дела, где покрасили гематоксилином и эозином, или простейшие гистохимические окраски на коллаген, на железо. Сейчас мы еще делаем иммуногистохимические исследования. Они очень важны, потому что говорят о возможности других методов лечения. Во-первых, можно сделать другой прогноз, но и это тоже не все. Помимо иммуногистохимических, применяются лазерная микродесекция, тканевые культуры, морфометрические методики, гибридизация in situ. Сегодня в науке многое происходит. Например, генетические исследования тоже работают в патанатомии. Появляются новые классификации опухолей, учитывающие их физиологические, патофизиологические, патогенетические особенности.
— Вас до сих пор вызывают в различные медицинские центры для консультирования такого рода?
— И вызывают, и привозят биоматериал (мы называем его препаратами) к нам на кафедру. У нас там все для этого есть — и обычный микроскоп, и флюоресцентные микроскопы.
— Наверняка к вам обращаются в каких-то сложных, спорных случаях. Расскажите какие-нибудь истории.
— Это обычно второе мнение или же просто попытка поставить диагноз, если его не определяют на предыдущем уровне. Таких случаев достаточно много, потому что мы не всегда можем сказать, есть опухоль или нет. Иногда воспалительные процессы, системные заболевания симулируют опухоль. Так что приходится разбираться.
Вспоминаю такой случай. Это было достаточно давно. Ко мне приехал профессор Андрей Иванович Воробьев, заведующий кафедрой терапии и гематологии, ученик Иосифа Абрамовича Кассирского, с препаратами биопсии лимфоузла молодой женщины. Он считал, что там есть злокачественная лимфоидная опухоль — лимфосаркома, как он сказал. Я посмотрел препарат и сказал, что, по моему мнению, это изменения реактивные, не опухолевые.
— Как он отреагировал?
— Топал ногами, сердился. Он ставил диагноз сначала по цитологическому отпечатку, не по биопсии. В цитологическом препарате он увидел «нехорошие» клетки. Но эти клетки были реактивного характера, не опухолевые. Он меня послушал, лечить не стал — а он хотел начинать агрессивную терапию по поводу лимфосаркомы. Эту молодую женщину отпустили. Ситуация повторилась примерно через полгода: дело было осенью, потом — весной. Абсолютно то же самое.
— Та же женщина?
— Да, но другой лимфоузел. Тот убрали. Опять появился лимфоузел, его опять пропунктировали тонкой иглой, нашли «нехорошие» клетки, поставили диагноз «лимфосаркома». Убирают лимфоузел целиком, делают биопсию, и — опять разночтения. Везут ко мне. Я опять стою на своем. Он сердится, доказывает, а я не сдаюсь. Он, будучи хорошим доктором, отпускает женщину, и через два с половиной — три месяца она возвращается после отдыха в Крыму, позагорав на солнышке, и у нее на лице «бабочка» — это красная волчанка.
— Это и было проявлением красной волчанки?
— Совершенно верно.
— А вы сами можете ошибаться?
— Конечно. Но я сомневаюсь, и я готов консультироваться даже со своими учениками, которые выросли и тоже прекрасно разбираются во многих вещах.
— Бытует мнение, что патологоанатом — это самый квалифицированный специалист из всех медицинских специальностей. Вы с этим согласны?
— Не знаю, самый ли, но один из самых. Он должен быть очень образованным человеком, хорошим врачом. Он должен вникать в самую сердцевину произошедшего с человеком, поэтому здесь есть связка с цифровыми технологиями, с искусственным интеллектом, с отрицанием необходимости живого врача. Я с этим никак не могу согласиться. Цифровизация, конечно, нужна, важна и необходима, но без живого врача — никак. Я могу консультироваться по поводу препаратов с высокопрофессиональными людьми на Западе — например, у меня уже появились друзья в Испании, Италии, Германии, с которыми я могу советоваться.
Георгий Авраамович Франк. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
— Каким образом вы это делаете?
— Я могу снять изображение и отправить на консультацию. Споров у нас практически не бывает, мы обсуждаем. Но если я обращаюсь за советом, то к людям, которые прекрасно разбираются в каких-то специальных разделах. Например, молочная железа — есть такой профессор Эди Виале (Edi Viale) в Милане, он заведует кафедрой, отделом в Европейском противораковом центре. Блестящий патолог и особый специалист по молочной железе. Несколько лет тому назад у меня был такой случай: ко мне пришла молодая женщина с препаратами, у нее была опухоль в молочной железе. Ей сделали простую биопсию, не секторальную. И в двух или даже в трех местах в Москве поставили диагноз «рак». Я с ними не согласился, проконсультировался с профессором Виале, и он согласился со мной. А больную уже собирались начинать лечить: высокие дозы лучевой терапии и радикальная мастэктомия — убрать всю железу с подмышечными узлами, с клетчаткой.
— Что же оказалось?
— Опухоль, но не злокачественная.
— Насколько часто могут происходить подобные случаи? Допустим, женщине ставят диагноз «рак», еще и, как вы говорите, не в одном, а в нескольких медицинских центрах. И, допустим, нет под рукой такого специалиста, как вы, нет возможности проконсультироваться с профессором из Милана. В этом случае начинают агрессивную терапию, фактически, как называется в народе, отрезают грудь, что звучит ужасно…
— На этот счет было много разговоров. Еще будучи министром здравоохранения, В.И. Скворцова решила открыть специальные референсные центры по всей стране. Перед этим мы создали специальные референсные центры по иммуногистохимии. В мире такие центры существуют: есть французский, американский, английский. Есть центр Nordic — он первично объединял четыре скандинавские страны: Данию, Норвегию, Финляндию, Швецию. Мы познакомились с этим опытом и решили реализовать у себя. Вероника Игоревна нас горячо поддержала, мы организовали такой центр у нас при кафедре, и он работает с 2018 г. Каждый год проходит шесть-семь-восемь раундов, когда мы привлекаем разные учреждения, они делают препараты, присылают нам. Особым способом контролируем, собираем экспертов по каждому раунду, определяем правильность проведения иммуногистохимической реакции, которая должна подтвердить или опровергнуть диагноз.
— Приведите пример, как идет такая работа.
— Например, поставлены диагнозы «рак молочной железы», «лимфома», «рак легкого», «меланома». Если все сделано хорошо, то этому учреждению выдается сертификат о возможности работы в области иммуногистохимических реакций. Это происходит анонимно, и если у учреждения не получился хороший результат, мы сертификат не даем, а высылаем ответ, почему и что можно исправить в этом случае. Как правило, при повторных участиях результаты у них гораздо лучше, они исправляют свои ошибки. А еще В.И. Скворцова хотела сделать — и сделала — референсные центры. Их 19, но, к сожалению, они не получились так, как первоначально задумывалось. Мы хотели, чтобы все сложные случаи, от Калининграда до Находки, Петропавловска-Камчатского и Владивостока можно было проконсультировать, получить второе мнение. Такие центры начали создавать, но пока они не очень успешны — там есть много сложностей, потому что мы никак не можем договориться, куда и кому посылать препараты.
— То есть специалистов не хватает?
— Специалисты есть, но, скажем, из Твери патологоанатом привык посылать в Санкт-Петербург профессору Юрию Александровичу Криволапову, или в Казань — профессору Семену Венедиктовичу Петрову, или в Москву — профессору Георгию Авраамовичу Франку. Но кому он должен послать? Если по территориальному признаку — это правильно, с одной стороны, а с другой — у человека есть свои отношения, свои контакты. Поэтому мы никак не договоримся, люди все равно шлют кто куда: одни — напрямую в МНИОИ им. П.А. Герцена, другие — в онкоцентры, третьи — в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.
— Означает ли появление таких референсных центров, что количество ошибок в диагностике уменьшилось?
— Безусловно.
— В вашей жизни всегда превалировала прижизненная диагностика?
— Всегда. После окончания института меня направили в маленький онкодиспансер. Там было 75, потом 100 коек — это Молдавия, второй город после Кишинева, Бельцы. Я там и начал работать. Работать было очень тяжело, но я с самого начала консультировал препараты в Кишиневе, в Онкологическом республиканском диспансере. Помню, как примерно через год после начала работы удалили опухоль желудка у относительно молодого человека, и я поставил диагноз «лимфогранулематоз». Главный врач и главный хирург диспансера — очень грамотный человек, учившийся в Румынии и во Франции, — сказал, что он мне не очень доверяет и просит меня проконсультировать. Я повез эти препараты в Кишинев и отправил по почте в Москву.
— По обычной почте?
— Да. Это был стеклопрепарат. Конечно, на это уходило время, но что сделаешь. Понимаете, срочность все равно обычно не определяется часами — это неделя, десять дней. Не принципиальная вещь. Диагноз был подтвержден, к сожалению.
— Вы знаете, как дальше сложилась его судьба?
— Я знал два года, потом уехал. Но знаю про другие ситуации. В Институте Герцена профессор Анатолий Иванович Пирогов, заведующий торакальным отделением, прооперировал молодую женщину 34 лет. За полтора года до этого ей пытались сделать операцию в крупном областном центре в центральной полосе России. Там врачи диагностировали лимфосаркому, взяли материал на биопсию, сочли, что опухоль распространилась на легкое и средостение и удалить ее невозможно. После операции рану зашили, провели лучевую терапию, но опухоль не уменьшилась. Назначили химиотерапию, но и она не дала результата, опухоль осталась на месте, даже слегка увеличилась. Она попала тогда к Анатолию Ивановичу Пирогову. Он провел операцию, удалил две доли легкого вместе с опухолью, и ко мне поступил этот материал. Опухоль выглядела как безусловно злокачественная: белая, плотная. Были сращены ткани средостения и легкого, две доли тоже были сращены. Но при гистологическом исследовании я заподозрил такую доброкачественную опухоль, которая называется «болезнь Кастлемана». Это реактивное изменение лимфатических узлов, доброкачественное поражение, которое никогда не дает метастазов. Так считалось тогда. Женщину отпустили, она через год приехала, поправившаяся, живая, здоровая, вышедшая замуж, собравшаяся рожать детей. Она приезжала еще раза три-четыре, последний приезд был через семь лет после операции. Ее показывали на различных обществах онкологов, торакальных хирургов. И тогда Анатолий Иванович пришел ко мне и говорит: «Вот у меня есть хороший парень, давайте дадим ему тему кандидатской диссертации, пусть сделает про эту патологию, нозологию кандидатскую диссертацию». Евгений Никитович Малыгин написал такую диссертацию, набрал около 30 случаев за несколько лет — не только у нас, но и в других учреждениях. Вот такие были результаты.
— Что вы чувствуете, когда оказывается, что ваши пациенты на самом деле не смертельно больны?
— Замечательно себя чувствую. Это непередаваемое ощущение — невероятная радость. Патанатомия — очень оптимистичная специальность. Еще один случай. Тогда много больных было на кафедре радиологии у Александра Сергеевича Павлова. У него писал диссертацию про лимфому Ходжкина, лимфогранулематоз Владимир Алексеевич Анкундинов. Приходили больные с готовыми препаратами, с окончательными или сомнительными диагнозами. Все препараты поступали ко мне на пересмотр, без этого они не начинали лечить. А лечили тогда по новой методике: это называлось «радикальная программа лучевой терапии», когда происходило тяжелое облучение практически всего организма.
— И неизвестно, от чего человек погибнет: от рака или от этого облучения.
— Такое тоже бывало. Пришла женщина с препаратами сына, ему было 15–16 лет. Они по контракту работали на Цейлоне в Шри-Ланке. У мальчика увеличился лимфоузел, и ему сделали биопсию в английском госпитале, поставили диагноз «лимфома Ходжкина». Я посмотрел, поставил реактивный диагноз — и мальчика отпустили. Прошло несколько лет — приходит женщина и говорит, что очень мне благодарна. Я тогда сказал, что злокачественной опухоли нет. Сейчас парень здоров, учится, все в порядке. Говорит: «Я работаю в Апрелевке на фирме “Мелодия” и принесла вам подарок — пластинки». Это была запись «Всенощной» С.В. Рахманинова. Их выпустили ограниченным тиражом — 100–200 экземпляров. Это, говорит, мне лично дали как сотруднице, я вам презентую. Она у меня очень долгие годы существовала, я с удовольствием слушал.
— Можно ли сказать, что ваша специальность сегодня не считается дефицитной? Хватает ли патологоанатомов?
— Не хватает.
— Почему, как вы думаете?
— Во-первых, потому что очень многие еще относятся к патанатомии как к той сфере деятельности, где только делают вскрытие. Мало кто хочет иметь дело с покойниками. Хотя уже сейчас это представление меняется и люди пошли. Но все равно специалистов не хватает. Лет 12–15 назад в Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова среди студентов-выпускников был проведен анонимный опрос, кем они хотят быть. На третьем месте с конца была патанатомия.
— Какую роль в вашей жизни сыграли учителя?
— У меня были разные учителя. Вот на днях я должен выступать на конференции памяти Николая Александровича Краевского в Онкоцентре. Он один из моих учителей, хотя я никогда не работал под его руководством. Среди моих учителей первым был Дмитрий Иванович Головин в Кишиневе, потом Анатолий Владимирович Смолянников, Зоя Васильевна Гольберт в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена — она заведовала патанатомией. Была блестящим диагностом, но не умела учить. Ни лекции не получались, ни занятия — не было у нее педагогического дара. Но надо было сидеть около нее и самому учиться, слушать ее рассуждения, почему она думает так, а не иначе. Она блестяще ставила диагнозы. Когда к Ипполиту Васильевичу Давыдовскому, нашему великому патологу, приходили на консультацию со сложной опухолью, он говорил: «Это я не знаю, поезжайте к Зое, она все расскажет». Поэтому учителя бывают разные.
— Расскажите о своей работе в этих стенах, в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования — что вы здесь сейчас делаете?
— Это вообще моя альма-матер — я аспирантуру оканчивал здесь, на кафедре. Кафедра тогда базировалась в Боткинской больнице, ею заведовал А.В. Смолянников, который был моим консультантом по кандидатской и докторской диссертациям. Потом я привлекался для чтения лекций по некоторым разделам, и, даже когда уже ушел в Герценовский институт, меня приглашали выступать по каким-то темам. Я там работал около 50 лет, заведовал патанатомией, сделал все на свой манер, как в лучших европейских и американских клиниках. Когда А.И. Воробьев стал директором Гематологического научного центра, он стал звать меня к себе. Я пошел туда на полставки и проработал больше десяти лет заведующим. До сих пор там консультирую. А потом здесь, в РМАНО, сложилась тяжелая ситуация, и в результате ставка завкафедрой патанатомии оказалась свободной. Тогда Ирина Владимировна Поддубная и Лариса Константиновна Мошетова предложили мне вернуться. Так я и заведую кафедрой.
— Что можете сказать о своих нынешних учениках?
— У меня есть несколько замечательных учеников. Лариса Эдуардовна Завалишина, биолог, пришла уже кандидатом наук, работала старшим научным сотрудником в Центре электронной микроскопии, а я ее переключил на иммуногистохимию, она стала ведущим иммуногистохимиком в стране. Более того, она первой в стране начала применять генетические методики. Это замечательно. И по сей день она работает профессором — читает лекции, ведет занятия, обучает докторов. У меня два врача-патологоанатома, оба профессора — Юлия Юрьевна Андреева и Павел Георгиевич Мальков. У него основная работа в МГУ им. М.В. Ломоносова, он там ведущий патологоанатом, в лечебном центре МГУ заведует отделом.
— Не могу не задать совершенно ненаучный вопрос: как вы считаете, существует ли душа?
— Есть что-то такое, не совсем материальное. Что — не знаю.
— Говорят, человека взвешивали до смерти и после и было какое-то отличие — это и есть масса души.
— Искали душу, нигде никогда ее не находили — ни в грудной клетке, ни в сердце, ни в малом тазу, нигде. Ничего такого найти не удалось. Я тоже ее не видел. Но то, что ее не нашли, не означает, что ее нет.