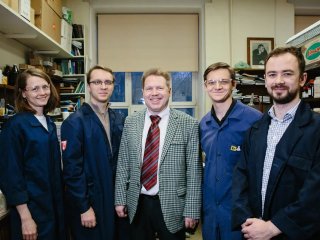Что такое пероксиды? Где их можно использовать? Почему химики иногда называют их самыми загадочными веществами? Об этом рассказывает член-корреспондент РАН Александр Олегович Терентьев, директор Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН.
Александр Олегович Терентьев. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
Александр Олегович Терентьев — специалист в области органической и технической химии, член-корреспондент РАН, профессор РАН, директор Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН. Среди научных достижений ученого — создание нового направления в химии C-, Si-, и Ge-органических пероксидов, разработка методов получения и исследование превращения моно-, ди-, три-, и тетрапероксидов, синтезировано 300 соединений этого класса. Осуществлен синтез пероксидных структур в рамках проекта по направлению «Безопасность и противодействие терроризму». Найдены пероксиды, высокоактивные к гельминтам и высокоцитотоксичные в отношении клеток рака простаты и шейки матки. Получены вещества с высокой фунгицидной активностью для обработки семян пшеницы и гороха в полевых условиях.
— Институту органической химии недавно исполнилось 90 лет. С чего начинался институт?
— С нескольких научных школ — академика Николая Дмитриевича Зелинского, академика Алексея Евграфовича Фаворского и других великих ученых. Институт начинался как сочетание каталитической и синтетической науки. Это наука о катализе в промышленности, в фундаментальной химии и синтез. Приблизительно в те годы соотношение катализа к синтезу было 60 : 40, каталитическая наука в институте в большей степени преобладала в сравнении с тем, что мы видим сейчас. Институт очень много работал с промышленностью. С самого начала своего создания промышленные задачи были первоочередными и даже имели немного бóльшую значимость, чем фундаментальные открытия, которые тоже, безусловно, делались.
— Чем сегодня занимается институт, какие разработки кажутся вам наиболее актуальными и перспективными?
— Институт постоянно рос, и к окончанию советского периода здесь работали порядка 1,5 тыс. человек. Потом это количество уменьшалось, сейчас оно опять увеличилось — и в институте работают более 1 тыс. сотрудников. Немного выросло соотношение в сторону органического синтеза, физической органической химии, установления строения вещества. Количество каталитических исследований стало поменьше, процентов 30.
Что делает институт? Это современные катализаторы гидрирования и дегидрирования для нефтяной промышленности, DeNOx-катализаторы, то есть очистка выхлопных газов. Это в целом различные системы очистки и утилизации чего-то. Важнейшая тематика — экологическая — тоже никуда не исчезнет, хотя и немного приелась.
— Почему она приелась?
— Очень много говорят об экологии и мало делают. Все, казалось бы, занимаются экологией, а технологии во многом мы закупаем за рубежом. Здесь, конечно, требуются очень качественные экспертизы различных экологических проектов. Институт тесно сотрудничает в области катализа с промышленностью, создаются технологии — вот сейчас производство жирных спиртов.
Кроме этого, у нас развилось направление гетерогенно-гомогенного катализа. Лаборатория выдающегося ученого академика Валентина Павловича Ананикова, которую он создал с нуля, занимает промежуточное положение — это область между гомогенным, гетерогенным и другими видами катализа. Здесь тоже очень много делается для фундаментальной науки, для промышленности.
Еще одно направление работы института — синтетическая органическая химия, органический синтез. Его можно разделить на два направления: фундаментальные открытия, которые мы делаем постоянно не только в синтезе, но и в катализе, и прикладная наука. Надо отдать должное системе государственного управления наукой и промышленности, которая сейчас сложилась и в Минобрнауки, и в академии наук — с одной стороны, и в Минпромторге и других министерствах — с другой. Очень выросла потребность в прикладной науке. У нас на порядок увеличился запрос от реального сектора экономики. Постоянно за этим столом, за которым мы сейчас сидим, идут переговоры о каких-то специальных заказах. Вот только сегодня были.
— С чем связана растущая потребность в прикладных разработках?
— Санкции и как следствие изменение политики государства — хорошая, на мой взгляд, перестройка всех министерств в области того, что на нас стали обращать очень пристальное внимание, помогать. И мы регулярно сотрудничаем с нашими ведущими министерствами. Институт вошел в программы фармацевтической промышленности в области органического синтеза и микроэлектроники. Органическая химия для микроэлектроники очень важна. Мы работаем и в таких направлениях, как шины, резины, каучуки, клеи. Мы также занимаемся средствами защиты растений. Непонятно, как будет с поставками, они то есть, то их нет. И еще одно важное направление — биоорганическая химия, синтетические вакцины на основе углеводов — тоже активно развивается.
— Кто у вас занимается вакцинами?
— Этой работой руководит член-корреспондент РАН Николай Эдуардович Нифантьев, очень известный ученый. Эта лаборатория берет свое начало от лаборатории академика Николая Константиновича Кочеткова, одного из директоров института. В те годы основным направлением в этой области было установление строения вещества, наука только знакомилась с углеводами. Сейчас поняли, что на основе углеводов можно много что создавать, в том числе и вакцины. Это синтетические вакцины на основе синтезированных в лаборатории углеводов. Если не ошибаюсь, их целью стала пневмококковая инфекция.
— Вы сами продолжаете руководить лабораторией, ведете активную научную работу. Расскажите, чем вы сейчас заняты.
— Мы создали на основе лаборатории отдел, я постарался из нашей лаборатории выделить молодежь, и в связи с этим в отделе есть органический синтез, а также катализ. Тема работы — это новые открытия в области свободнорадикальных реакций, органических пероксидов, электро- и фотохимии, сравнительно новые способы воздействия на вещество, чтобы одно вещество превращалось в другое селективно. Мы сейчас сидим с вами под лампой — как раз с использованием практически таких же ламп мы проводим химические реакции.
— Вы сказали, что много сотрудничаете с промышленностью. Что в этом направлении делает ваш отдел?
— Сейчас пришел большой запрос промышленности на создание инициаторов радикальной полимеризации и вулканизации. Например, из этилена надо сделать полиэтилен. Эти реакции часто проводятся с использованием как раз радикальных реакций с участием пероксидов. Или, например, надо сделать из пластичного полимерного материала каучук, это тоже проводится с использованием пероксидов. У нас сейчас несколько контрактов с реальным сектором экономики, мы делаем работы и на частные деньги, и на деньги Минпромторга — НИР, НИОКР, отрабатываем начальные стадии синтеза, передаем их нашим коллегам в другие организации. Они масштабируют, и вот сейчас будет строиться большое производство пероксидов для нужд промышленности — микроэлектронной, кабельной.
Александр Олегович Терентьев. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
— Когда дилетанту говорят, что из этилена надо получить полиэтилен, на ум сразу приходят полиэтиленовые пакеты. Наверное, не только они?
— Нашу огромную страну соединяют дороги и в том числе электрические кабели, протянутые везде и всюду. Эти кабели покрыты плотной изоляцией, это такой специальный каучук смешанного полимерного состава, который получается с использованием пероксидов. Сейчас мы его закупаем. Для другого важного производства также создаются эти пероксиды, в том числе и для получения различных пленок, для более деликатных покрытий и материалов.
— Вы занимались также онкологическими разработками. Они продолжаются?
— Соединения органических пероксидов, которыми мы занимаемся, чрезвычайно интересны. Приблизительно 50 лет назад на их основе было сделано грандиозное открытие: они обладают антималярийной активностью. Это был китайский военный проект, в результате которого удалось выявить, что вещество из традиционной китайской медицины — отвар полыни — лечит малярию. Началась эпоха медицинской химии пероксидов. Никто в них не верил, потому что привыкли, что пероксиды либо взрываются, либо распадаются, но не могут попасть в организм и долго там существовать.
В 2014 г. была получена Нобелевская премия за выдающееся открытие, которое спасло миллионы жизней. Дальше химия в этом направлении ускорилась. Мы работаем в области создания антипаразитарных, антигельминтных, антишистосомных, антималярийных препаратов. Работаем со многими странами — с Китаем, Италией, даже с США, хотя сейчас это дистанционная работа.
Но потом оказалось, что эти же пероксиды обладают противораковой активностью. Понятно, что рак — это очень сложное заболевание, но главное — они могут убивать опухолевые клетки.
— А как это выяснили?
— Интуитивно. Предположили в лаборатории, потом наши коллеги из Нанта (Франция) сделали эту работу. И оказалось, что такие соединения обладают высокой активностью по отношению к раку шейки матки и раку простаты. С непонятным механизмом действия, потому что они нестандартны. Иногда понятно, как взаимодействуют вещество и лекарство, — как ключ с замком. Но здесь этот «ключик» — молекула, помимо того что она будет куда-то входить, еще будет сама там распадаться. Поэтому действие будет двойным. Как это работает, не понимает никто в мире. И, несмотря на Нобелевскую премию по паразитарным заболеваниям, до сих пор неизвестно, как же точно работают эти пероксиды. Мы это постоянно выясняем, так же как и другие. Но до конца это пока установить не получается.
— Наверное, когда вы это наконец выясните, это будет еще одна Нобелевская премия?
— Думаю, что да. Главное, что это имеет огромное социальное значение. В таких соединениях заложен некий необычный потенциал. Ими никогда не интересовались как лекарствами, их рассматривали как антимикробные вещества, антисептики, инициаторы полимеризации. Но как лекарства их не изучали, и только недавно это началось — в отличие от огромного количества других веществ. Это гигантское нераскрытое поле. В этой же области пероксидов мы обнаружили их прекрасную фунгицидную активность. Здесь мы много сотрудничаем с организациями, занятыми защитой растений.
— Что у вас происходит в этом направлении сейчас?
— Мы постоянно работаем в этом направлении, много с кем сотрудничаем — это и Тюменский научный центр, и НИИ фитопатологии, и другие. Постоянно где-то испытываем эти наши вещества. Они очень хорошо убивают практически все виды фитопатогенных грибков, стоят на уровне лучших мировых веществ.
— Как они различают, что нужно убивать, а что нет?
— Механизм действия также не совсем понятен. Это тоже была интуитивная находка, она не имела под собой никаких оснований. Они не действуют на бактерии, на вирусы — только на грибы. Вероятно, есть какой-то метаболический путь в грибах, который пероксиды прерывают. Какой — непонятно. Но то, что это эффективно, мы точно увидели. Мы посмотрели это для обработки и семян, и листьев, и при хранении урожая. Эти вещества эффективны.
— Они используются пока только на опытных участках или входят в сельскохозяйственную практику?
— Пока на опытных участках. В масштабную практику — пока нет. Многие ранее говорили, что химическая индустрия в стране развита, но объявление санкций показало, что 80–90% того, что говорилось, на самом деле нет. Эти производства были в Советском Союзе, но были утеряны в 1990-е гг. Они сейчас строятся, чтобы сделать лекарства, средства защиты растений, какие-то присадки к резине, красители, пищевые добавки. Для этого сначала надо построить химическую промышленность. Сейчас принят нацпроект, во многом его ведут Минпромторг и Российская академия наук, а также Минобрнауки. И этот проект занимается построением новой химической базы, которая была утеряна. Сейчас мы будем возвращаться к уровню 1950–1970-х гг.
— Сколько потребуется времени для воспроизводства химической промышленности?
— Сложный вопрос. У каждого государства бывает такое «окно возможностей», когда оно может возродить свою промышленность. Может быть, такое было только в СССР. Из-за того, что вокруг нашей страны сейчас производится много химии и много различных материалов, много машин, нам уже не удастся в такой степени возродить химическую отрасль. Это будет, но такого, как было, может не получиться. Мы пропустили «окно возможностей» — им был СССР, великая страна.
А второе — сейчас запрос по развитию промышленности идет сначала от государства к компаниям, а от них — к нам. И компании, даже большие и сильные, не всегда могут правильно сформулировать научные запросы о развитии. По текущему производству они ориентируются прекрасно, а вот как развивать — это им сложно сделать. На мой взгляд, эту систему надо откорректировать, чтобы запрос со стороны государства шел одновременно и в компании, и в науку — в академию наук, в крупные университеты. Компании будут видеть этот запрос в конкретной плоскости, мы — видеть его в масштабе, и потом уже совместно мы сможем что-то планировать. Сейчас структура планирования несколько перевернута. Запрос идет в компанию, потом к нам. И компания отвечает обратно в те структуры, которые ответственны за планирование. Поэтому, может быть, сейчас план реализации не совсем правильный. Мне кажется, что университеты, академия наук в недостаточной степени подключены к этому стратегическому планированию.
— Вы считаете, что эффективнее будет, если все будет наоборот? Сначала — университеты и институты, а потом уже — производство?
— Или параллельно. Сейчас все-таки акцент идет на производственную сферу. Им это сделать сложно. Они стараются, я вижу, что изменения происходят, мы стали больше общаться с производственниками, а прежде мы мало общались. Но это должно еще углубиться. Мы не достигли баланса взаимопонимания в принятии решений по стратегическому развитию государства. Все-таки там не хватает научной части.
— Какие видите перспективы у вашего института?
— На мой взгляд, сейчас у института хорошая ситуация. Не только у нашего, у других химических институтов тоже. Мы стали востребованы отечественной промышленностью. Если еще 15–20 лет назад это были богом забытые академические институты, которые сходили на нет, то сейчас это нужные и важные для государства структуры. Те задачи, которые встают перед страной, помогают нам развиваться. В плане прикладной науки это будет импортозамещение веществ и различных технологий, очень нужных для нашей текущей жизни и, конечно, для поддержания обороноспособности государства. Это обязательно будет в тренде. Кроме этого, фундаментальная наука служит базой для прикладной, мы должны этот уровень поддерживать и двигаться в этом направлении.
— Понимают ли люди, принимающие решения, что фундаментальная наука не менее важна и без нее не будет прикладной?
— Это сложный вопрос. Такое понимание в принципе есть, но оно для крупных институтов и университетов. В отраслевых институтах этого не хватает. Приходишь в отраслевой институт, который сохранился. Это очень хорошо, что он сохранился. Смотришь историю: раньше этим институтом руководил доктор наук, известный профессор, член-корреспондент Академии наук СССР. А сейчас им руководит, предположим, грамотный и умный человек, но из экономики, из юриспруденции. Я не хочу сказать, что эту ситуацию легко изменить, поскольку мы живем в такой сложной государственно-правовой системе, с закупками, с принятием людей на работу, с определенной незащищенностью институтов. Возможно, только такой человек зачастую и может помочь институту выжить в отраслевой системе. Но он мало понимает в этой науке. Поэтому, на мой взгляд, систему требуется определенным образом переформатировать. Пока во главе института не будет стоять человек, который понимает, как развивать дело, сами институты не будут развиваться. Рано или поздно этот специалист в социальной области выстраивает институт под себя. И кадры формируются такие, какие ему близки. Он просто не может видеть стратегию развития института, не видит людей, которые могут его развивать.
— В чем уникальность вашего института?
— В том, что он покрывает практически все области органической химии. Образуется такой синергетический эффект: когда появляется какая-то задача, фундаментальная или прикладная, то, как правило, в институте находятся люди, которые могут способствовать решению этих задач. К ним всегда можно обратиться за консультацией в какой-либо области: химии гетероциклов, катализа, радикальных реакций, нефтехимии и т.д. И обязательно находится кто-то в смежной области, кто может помочь, объяснить, рассказать. Для многих институтов, не только для нашего, важна определенная критическая масса квалифицированных научных сотрудников. Если она есть, то институт существует как саморазвивающаяся организация. У нас в институте это присутствует. И мы очень много работаем по тематикам, которые нужны в современный период.
— Вы прошли в этом институте большой путь…
— После окончания вуза я работал главным технологом на производстве, потом перешел в институт, потому что меня больше привлекала научная деятельность. Заведовал лабораторией, был заместителем директора, сейчас стал директором.
— За что вы любите и цените свой институт?
— У нас работают прекрасные люди. Когда вижу людей, на душе сразу становится хорошо. Они умные и по-человечески хорошие. Это во многом заслуга линии руководства, которая существовала с самого начала создания института, — на построение науки и человеческих отношений. При этом поддерживается определенная конкуренция при сохранении качества научной дискуссии. У нас в коллективе очень хорошие отношения. Помимо высокой квалификации сотрудников, это, на мой взгляд, одна из самых главных черт института.
— Директорство — управленческая работа. Это не мешает жить — много бюрократии, а науки из-за этого меньше, чем хотелось бы?
— Это очень необычно, но науки меньше не стало. Меня предупреждали, что науки будет меньше, но оказалось, что это не так. Мы сейчас из-за внимания государства к науке в общении с огромным количеством компаний наконец-то увидели те задачи, которые перед нами стоят в практической плоскости. И я для себя во многих случаях открыл совершенно новый мир, который раньше был от нас скрыт. Мы начинаем задумываться над интересными научными проблемами. Мне по-прежнему все интересно. Здесь сохраняются и научная, и административная работа с хорошими людьми, которым приятно помочь, о них позаботиться. Поэтому никогда ни о чем не жалею.