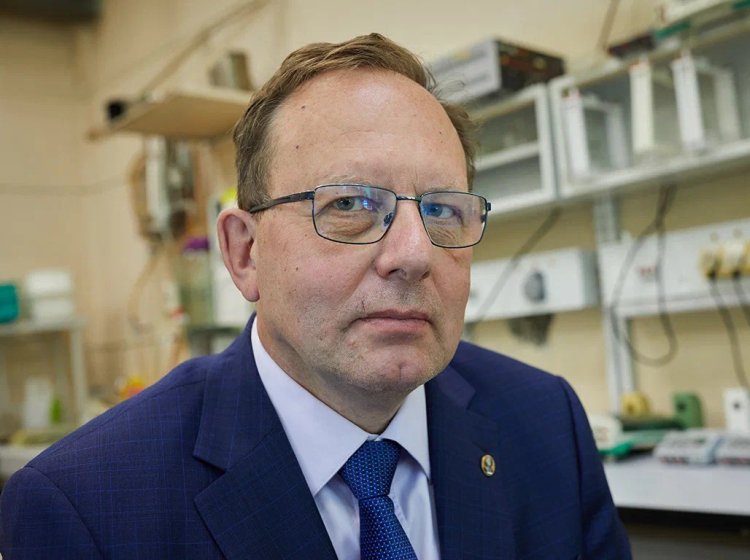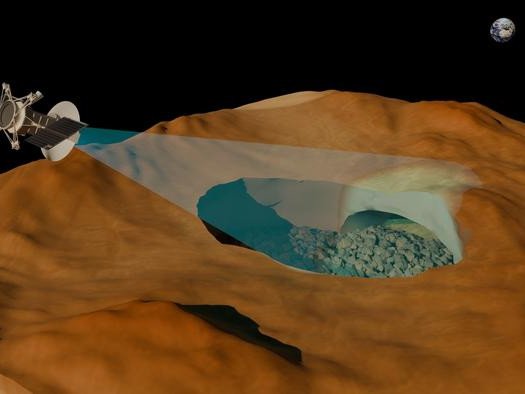Что такое ДНК-диагностика и зачем она нужна? Какие методы сегодня в арсенале медицинских генетиков? Какие заболевания научились распознавать и лечить? Не опасно ли это? Об этом мы беседуем с членом-корреспондентом РАН Александром Владимировичем Поляковым, руководителем лаборатории ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова.
Александр Владимирович Поляков. Фото Елены Либрик / Научная Россия
Справка
Александр Владимирович Поляков — ученый-генетик, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН, специалист в области ДНК-диагностики наследственных заболеваний человека. Руководитель лаборатории ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова. Занимается разработкой новых методик выявления моногенных заболеваний и созданием NGS-панелей для диагностики гетерогенных наследственных болезней. Создатель систем для исследования таких заболеваний, как миодистpофия Дюшенна, спинальная амиотpофия, болезнь Кеннеди. Автор более 600 научных работ. Член редколлегии журналов «Генетика», «Медицинская генетика».
— Вы руководите лабораторией ДНК-диагностики. Не буду спрашивать, зачем она нужна, — сегодня, наверное, каждый это знает, хотя еще несколько лет назад такой вопрос можно было бы задать. Молекулярно-генетическая диагностика, к которой сегодня прибегают очень часто, в том числе в онкологии, и ДНК-диагностика — это разные вещи?
— Наверное, понятие молекулярно-генетической диагностики более широкое. Это может быть диагностика не только на уровне ДНК. С другой стороны, ДНК-диагностика тоже включает в себя диагностику на уровне не только ДНК, но и РНК, например на уровне нуклеиновых кислот. Так что во многом эти понятия взаимозаменяемы. А насчет того, что все сегодня знают, что такое молекулярная или ДНК-диагностика, думаю, к сожалению, это не так. Далеко не все.
— Мне кажется, сегодня очевидно, что есть ряд заболеваний, когда без такой диагностики установить точный диагноз невозможно.
— Действительно, дело не в том, что какие-то заболевания очень трудно диагностировать, дифференцировать, — хотя, как правило, это так. Даже специалист с огромным опытом, который видел много таких больных, может ошибиться, и не потому что он плохой специалист, а потому что в своем течении многие болезни похожи друг на друга, при этом они имеют различную молекулярную причину. Прогноз для таких заболеваний может быть совершенно разным. Окончательная постановка диагноза проводится на уровне ДНК путем определения конкретной мутации в конкретном гене, в конкретной семье. К счастью, сегодня и в американских, и в европейских гайдлайнах, и в российских клинических рекомендациях для большинства моногенных заболеваний прописано, что окончательный диагноз ставится только на уровне ДНК. С такой постановкой диагноза сегодня согласны и общество, и врачи.
— Вы говорите о моногенных заболеваниях, и вы в основном ими и занимаетесь. Что это такое?
— Это те заболевания, которые подчиняются классическим менделевским законам наследования. Если совсем просто говорить: есть мутация — есть болезнь, нет мутации — нет болезни; конечно, с определенными допущениями. Для возникновения такой болезни достаточно мутации в одном гене. С другой стороны, подобных генов для данного недуга может быть несколько. Клинически это может быть одно и то же состояние — скажем, пигментная дегенерация сетчатки, — а генетически, на молекулярном уровне, это будут повреждения в разных генах.
— Приведите, пожалуйста, пример, какими конкретно моногенными заболеваниями вы сейчас занимаетесь.
— Лаборатория диагностирует более 300 заболеваний, в то время как сегодня известно более 6 тыс. моногенных заболеваний — тех, для которых известен первичный молекулярный дефект. В нашей и других лабораториях центра существуют подходы и методы, позволяющие смотреть повреждения в любом гене, для которого известна ассоциация с определенной болезнью. Мы можем искать новые гены. Наиболее частые социально значимые из наших орфанных, редких болезней — те, которые случаются чаще, чем у 1 : 10000 новорожденных. Прежде всего это спинальная атрофия, для определения которой в России в 2023 г. был запущен неонатальный скрининг. Это мышечная дистрофия Дюшена — Беккера, для ранней диагностики которой сейчас ведутся пилотные проекты, и, я надеюсь, скоро такие скрининговые программы будут работать на федеральном уровне. Это фенилкетонурия, муковисцидоз, нейросенсорная несиндромальная тугоухость. Я назвал, наверное, самые частые, самые известные и социально значимые патологии.
— Когда диагностируются все эти заболевания, какие варианты дальнейшего хода событий вы можете предложить пациентам?
— Изначально ДНК-диагностика, появившаяся как первая группа методов в середине 1980-х гг., ставила своей целью определение конкретной мутации в семье, и дальше основным целеполаганием была помощь семье родить здорового ребенка, поскольку терапия таких заболеваний отсутствовала. У семьи зачастую был на это единственный шанс: с помощью дородовой диагностики на этапе беременности определить, несет ли плод заболевание. Дальше семья принимала решение, сохранить беременность в случае неблагоприятного прогноза или нет. Конечно, все были нацелены на рождение здорового ребенка. От тяжелых заболеваний дети часто умирают в младенчестве — с такими недугами мы работаем.
Сейчас ситуация кардинально изменилась: те болезни, которые раньше были летальными, сегодня реально лечатся. Раньше я об этом и мечтать не мог. Может быть, это лечение пожизненное, но оно позволяет ребенку развиваться по нормам здоровых сверстников. Это спинально-мышечная атрофия, и здесь огромные результаты, это определенные заболевания сетчатки глаз, тот же муковисцидоз — все, о чем я говорил. Раньше ничего не оставалось, кроме как сказать: «Извините, у вас такой ребенок», — и это брал на себя врач-генетик, который при этом был еще и психологом. Сегодня, к счастью, многие заболевания начинают излечиваться, именно поэтому у нас был расширен неонатальный скрининг. Требования к скринингу — чтобы заболевание было редким, тяжелым, чтобы оно лечилось. Поэтому сегодня у нас расширено число болезней, входящих в неонатальный скрининг: на текущий момент в России это почти 40 заболеваний.
— У вас есть лаборатория редактирования генома. Возможно ли какие-то методы редактирования применить к моногенным заболеваниям?
— Вопрос очень тяжелый, его лучше задать заведующему лабораторией. Редактирование генома — нашумевшая тема. Как всегда в таких случаях, человечество возлагало очень большие надежды на этот метод, но, к сожалению, на мой взгляд, развивается все не так быстро и позитивно, как хотелось бы. Выяснились определенные проблемы на пути редактирования, хотя количество методов и ферментов по сравнению с тем, что было открыто и что имеется сейчас, разительно отличается.
Однако сегодня зарегистрирован только один генотерапевтический препарат, основанный на технологии редактирования генома. Применяются другие препараты на основе генной терапии. Генная терапия — это терапия, когда действующим веществом в лекарстве становится нуклеиновая кислота — РНК или ДНК. Это не обязательно цельная или сжатая копия гена, это может быть определенный маленький кусочек, олигонуклеотид, влияющий на процессинг РНК соответствующего гена. Это все равно будет генная терапия, но не редактирование: мы не исправляем ошибку, но заставляем работать ген, в котором имеется ошибка. Это тоже генотерапевтический подход.
— На сайте вашего научного центра перечислены ваши научные результаты, среди них — картирование четырех генов, мутации в которых приводят к наследственным заболеваниям человека. О чем речь?
— Всем понятно, что если есть моногенные заболевания, то есть и гены, отвечающие за эти заболевания. У нас есть геном, но где лежит ген, ответственный за заболевание, никто не знает. Задача — его найти, чтобы, во-первых, учиться искать мутации в этом гене, во-вторых, понять, какова функция белка, продуцируемого этим геном, попробовать что-то исправить на биохимическом пути, в котором участвует этот белковый продукт. В-третьих, подойти к генной терапии, но не путем редактирования, а путем влияния на этот ген, чтобы заставить его работать.
— Что за гены вы обнаружили?
— Была такая программа — «Геном человека», перед которой стояло много целей, и последняя — прочтение всего генома. Но второй по значимости и первой по социальной востребованности был поиск тех генов, которые отвечают за моногенные заболевания. Каждый раз открытие такого гена — это событие для всего человечества. Мне посчастливилось, что я живу и работаю в это время, поучаствовал во всем этом. Три из тех генов, о которых мы говорим, — это гены болезни Шарко — Мари — Тута, или наследственной моторно-сенсорной нейропатии. К сожалению, сегодня генная терапия здесь недоступна.
Александр Владимирович Поляков. Фото Елены Либрик / Научная Россия
— Как проявляется это заболевание?
— Прежде всего, у человека страдают ноги, ему трудно ходить, двигаться; потом наступает слабость в руках, в конце концов, при развитых формах заболевания, человек может сесть в коляску. Еще один из картированных нами генов — ген чувашского остеопетроза.
— Он наиболее распространен в Чувашии?
— Да. У нас есть этнически приуроченные болезни. Нами идентифицирована мутация при якутской метгемоглобинемии. Удалось поучаствовать в картировании гена хореи Гентингтона.
— Существуют ли подходы к терапии этих заболеваний?
— Для метгемоглобинемии — да. Там все просто: нужна аскорбиновая кислота. Человек весь синюшный и слабый — пейте аскорбинку, и все будет хорошо. Но перед тем как ее назначить, нужно поставить молекулярный диагноз, понять причину заболевания.
— Перейдем к вашим дальнейшим результатам: установлена молекулярная причина трех наследственных болезней человека.
— Есть два разных этапа: первый — картирование, второй — поиск генов в том участке хромосомы, который картирован. Нам удалось в этом участке хромосомы найти соответствующий ген, повреждение которого приводит к одной из форм болезни Шарко — Мари — Тута.
— Как вы думаете, удастся ли когда-нибудь создать терапию заболеваний, которые сейчас не излечиваются?
— Я практически уверен в этом. То, что сейчас происходит, — это фантастика: сегодня в мире зарегистрированы и разрабатываются порядка 36 генотерапевтических препаратов приблизительно для 300 заболеваний. Понятно, что болезней гораздо больше, но в первую очередь лекарства разрабатываются для наиболее частых и там, где сегодня подходы к такой разработке наиболее доступны. Когда закончатся частые заболевания среди наших редких, пойдут редкие среди редких.
— Люди обычно очень боятся вмешательства в геном, считая, что мы вмешиваемся в святая святых, в «замысел Бога», и из-за этого человечество становится слабым, уязвимым и в конце концов вымрет. Как вы относитесь к таким разговорам?
— К некоторым таким процессам, особенно редактирования генома и особенно если это редактирование половых клеток, нужно подходить архиосторожно. Что касается соматических клеток — конечно да. Если идти по тезису, который вы выдвинули, дальше, то тогда давайте откажемся от обезболивающих, других лекарств, вообще от медицины. Мы ведь в этом случае тоже вмешиваемся. Просто сегодня мы вмешиваемся на другом уровне — мы больше знаем, соответственно, больше можем. Это вечный вопрос: где та грань, где мы ставим себя на позицию бога? Поверьте, и я, и мои сотрудники постоянно задаемся этим вопросом.
— И что же вы себе отвечаете?
— Я себе отвечаю так: если сегодня у человека существуют это знание и эта возможность, то делать вид, что ты этого не можешь сделать, отказываться помочь человеку — это неправильно.
— Какие у вас научные планы, что бы вы хотели обязательно сделать?
— Наверное, планы скорее не научные, а социальные: я бы хотел, чтобы мои ученики, которых у меня много, обогнали меня и сделали работы лучше, чем я.
— Какие конкретные результаты вы хотите видеть у ваших учеников — то, что, может быть, вам сейчас кажется недоступным в технологическом плане?
— Конечно, это и выходы на новые подходы к лечению наследственных заболеваний, и понимание механизмов возникновения процессов, приводящих к развитию этих заболеваний, — не просто нахождение мутации, а определение и понимание того, как эта мутация приводит к заболеванию.
— Ваш центр — это не только научное, но и клиническое учреждение: у вас много пациентов, в том числе с детьми. Вам приходится иметь с ними дело?
— Сейчас практически нет, но я и не врач по образованию, это не моя стезя. Это правильно, что с ними общаются врачи-клиницисты. Но всегда, когда мы делаем анализы, мы понимаем, что за любым исследованием стоит конкретный человек со своими конкретными проблемами. Поэтому у нас есть определенные сроки, в которые мы должны уложиться: ведь все так или иначе завязано пусть не на генетическое, но на симптоматическое лечение для этого человека, на прогноз для этой семьи. Для них важен каждый день. Поэтому я и работаю здесь, а не где-то в университетской науке — это наука, направленная на помощь конкретным людям.
— Расскажите какой-нибудь случай, когда было непонятно, какое у человека заболевание, а вам удалось установить правильный диагноз и помочь ему.
— Такие случаи происходят каждый день. Однако реальный процент клинических ошибок до сих пор весьма высок — не потому что врачи плохие, а такова объективная ситуация, и только благодаря тем методам, которые у нас появляются, мы можем найти эти ошибки и поставить верный диагноз. На этом знании, полученном от молекулярщиков, учатся врачи-клиницисты.
— А вы не ошибаетесь?
— Конечно, ошибаемся, но наши ошибки имеют больше технический характер. Они сейчас сведены к минимуму, но бывают — в основном методические, когда праймер, искусственный участок ДНК, используемый для ее размножения в пробирке, лег на повреждение, вызывающее болезнь, мы этого не заметили, написали, что норма, а это не так.
— И что тогда?
— Когда это выясняется, мы сдвигаем этот искусственный участок или делаем диагностику другим методом, находим верное решение — такое бывало не раз. У нас сейчас растет поток анализов. Конечно, увеличение потока приводит к снижению качества, я это вижу: если раньше ошибки были раз в три-пять лет, то теперь я их вижу несколько раз в год. Такова плата за увеличение потока.
— Какой выход? Расширять количество подобных лабораторий?
— Это невозможно. В этой лаборатории до сих пор работает очень много экспертов — это люди, пришедшие в эту науку с момента ее появления. Впитать все, что в ней есть, — для этого надо прожить целую жизнь. Я в ДНК-диагностике 35 лет, а ей как раз столько и есть.
А если вспоминать случаи… Мой случай из совсем юной практики, когда я сам еще капал в пробирку, это самый конец 1980-х — начало 90-х гг. Мы делали дородовую диагностику для миодистрофии Дюшенна. Я этот случай рассказываю на лекции студентам, чтобы посмотреть, как они соображают. Диагноз «миодистрофия Дюшенна» сегодня не приговор, но в те времена это было так. Мальчик на втором десятилетии скорее всего умрет, а перед этим — сядет в коляску, потом ляжет. Сейчас сильно продвинулось поддерживающее лечение без генотерапевтических препаратов. Сами методы ведения таких пациентов очень здорово шагнули вперед, продолжительность жизни существенно увеличилась.
В то время единственным вариантом помочь семье было провести дородовую диагностику. Х-сцепленными заболеваниями болеют только мальчики, потому что у них нет второй Х-хромосомы, а копия гена на Х-хромосоме повреждена, возникает заболевание. Девочка — носительница. Если у нее одна копия повреждена, во второй хромосоме все нормально, никакой болезни нет. Дородовая диагностика позволяет семье принять решение, сохранять беременность или нет.
И вот мы видим две полоски у плода, две Х-хромосомы во время дородовой диагностики. Это значит, что будет девочка. Раз девочка — все хорошо, можно рожать. Пишем, что ожидается рождение девочки.
Проходит время, приходит мама прямо в лабораторию (тогда это было очень просто) и говорит, что родила мальчика. Я помню ощущение, когда волосы встали дыбом.
— Как же такое могло выйти?
— Начинаем разбираться. Нам принесли плодный материал — это ворсинки хориона, которые имеют материнское или плодное происхождение. А нам, оказывается, принесли материнские вместо плодных! Поэтому мы определили и увидели две полоски от матери. Мы ошиблись! Дальше читаешь статьи и выясняешь, что в это время, в начале 1990-х гг., так ошибались везде — в Европе знаю несколько таких же случаев. Теперь во всех гайдлайнах по дородовой диагностике написано: «Обязательная проверка плодного материала на заражение материнским».
— И что с этим мальчиком?
— Нам очень повезло — он здоров. В половине случаев мальчик будет, и только в половине болен. Здесь карты легли так, что мальчик был здоров. Мы ошиблись, но семье повезло.
— Это тот редкий случай, когда врачебная ошибка — это благо. Чем вас привлекает ваша профессия?
— Для молодежи скажу так: работать в этой сфере — большое счастье. Даже если ты сидишь в лаборатории, нужно понимать, что ты работаешь для конкретного человека. Это главное. Если тебе это интересно — приходи, мы ждем.