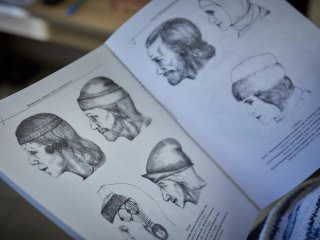Что такое палеогенетика? Какие специалисты работают в этом научном направлении? Какие новые данные становятся доступными благодаря этим исследованиям? Есть ли среди них прорывные? Что это дает человечеству? Рассказывает член-корреспондент РАН Мария Всеволодовна Добровольская, заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН.
Мария Всеволодовна Добровольская. Фото Елены Либрик / Научная Россия
Мария Всеволодовна Добровольская — доктор исторических наук, антрополог, археолог, специалист в области изучения культуры повседневности древнего и средневекового населения России. Сфера научных интересов — историческая экология человека. Это междисциплинарное направление изучает воздействие природных и социальных факторов на различные стороны жизни древних и средневековых обществ, в том числе на демографическую структуру и пищевые традиции. Для реконструкции образа жизни древних людей используются современные высокотехнологичные естественно-научные методы, в частности биологические и химические: палеогеномные данные и анализ изотопного состава химических элементов.
— Мария Всеволодовна, ваши отец и дядя — знаменитые профессора-почвоведы. Можем ли мы сказать, что вы в какой-то степени пошли по их стопам?
— Безусловно. Мне кажется, что, например, естественно-историческое исследование в области почвоведения сродни историческому знанию. Так, изучение экосистем, их развития, динамики сходно с изучением исторических процессов. Это тоже процесс, некое сюжетное развитие во времени.
— И вам тоже приходится иметь дело с почвой, причем достаточно глубокими ее слоями. А почему вы пошли именно в археологию?
— Я очень долго шла в археологию. Начинала свою профессиональную деятельность в биологии, на биофаке МГУ, на уникальной для нашей страны кафедре антропологии. Такой нигде больше нет. Эта кафедра совмещает естественные курсы и гуманитарные. Это и археология, и этнография, и курсы по естественной истории четвертичного периода. Весьма специальное образование, которое, говоря современным языком, очень междисциплинарное. Это не только биология, но и базовые знания, которые помогают ориентироваться в гуманитарных науках.
— А вы себя чувствуете гуманитарием или человеком из естественных наук?
— Непростой вопрос. Может быть, я скажу ужасно крамольную вещь, но мне кажется, что возможность сочетать то и это есть специфика археологии. Я всегда хотела заниматься человеком «во времени», поэтому выбрала кафедру антропологии.
— Сейчас вы руководите лабораторией контекстуальной антропологии. Это значит человек в контексте времени?
— Человек как предмет палеоантропологии в контексте археологического памятника, археологической ситуации. Археология очень разнообразна в своих интересах. Сейчас это огромное междисциплинарное поле, и человек в археологии, мне кажется, занимает сейчас все более важное и обоснованное место. Мы хотим знать о людях прошлого. История развития археологии связана с изучением культуры. Это свойства и особенности любого человеческого сообщества, где люди живут в культурной среде, но они же порождают эту культурную среду. На эту культуру можно смотреть с разных сторон. Можно изучать сам результат этой культурной деятельности, а можно попробовать увидеть творца: как он создает эту культуру и как культура на него влияет. Вот это и есть, на мой взгляд, контекстуальная антропология.
— Чем конкретно вы занимаетесь в вашей лаборатории?
— Так получилось, что лаборатория в основном состоит из молодежи. Мы вместе занимаемся проблемами влияния среды на человека, на его культуру и наоборот — как человек формирует особенности своего ближайшего окружения. Чаще всего это проявляется в каких-то свойствах или характеристиках. Чтобы доказательно рассказывать о своих гипотезах относительно важности определенного типа животноводства для людей, живших тысячи лет назад, мы должны опираться на инструменты и признаки, подтверждающие наши выводы.
На основании чего мы можем так считать? Что дает наш палеоантропологический источник? Важно, что последние десятилетия в археологии — это появление новых методов, и мы в нашей лаборатории стараемся применять все эти методы к палеоантропологическим материалам.
— О каких методах речь?
— Классика. Это измерительные методы. Это классическая физическая антропология, сейчас ее чаще называют «биологическая». Когда мы учились, это была физическая антропология, и она была прежде всего морфологической наукой. Сейчас мы пытаемся насытить свою профессию другими методами. Например, у нас в лаборатории широко используются изотопные исследования останков человека. Изотопный состав скелета, например органической части белков или минеральной части — эмали зубов, зависит от того, что и как человек поглощает и в какой среде находится. У нас в руках оказываются очень точные маркеры этой среды. Эти же методы используются в экспертизе современных пищевых продуктов — производятся ли они с соблюдением норм или нет. Эти методы позволяют нам понимать, что ели люди, какие-то их групповые, индивидуальные характеристики. А, например, изучение поселенческих и погребальных памятников указывает на то, что в социуме есть расслоение: элиты и люди более низкого социального уровня.
— И мы можем об этом судить по тому, что они ели?
— Да. Судить о том, что их разделяло, в частности, были пищевые различия или нет.
— Вопросам питания древнего человека была посвящена ваша докторская диссертация. К каким результатам удалось прийти в результате этой работы?
— Из самых общих соображений и здравого смысла мы хорошо знаем, что человек очень зависит от того, что он ест и в каком количестве. «Я есть то, что я ем» — фраза всем известная, но она ориентирует нас на эту связь. А связь эта неочевидна. Вроде понятно, что голодный от сытого отличается, но, с другой стороны, как все это работает, не очень понятно. Конечно, было интересно собрать все сведения и проанализировать, какую роль играет питание в эволюции человека. Человек — существо всеядное, диапазон традиций питания таков, что ни один другой вид такого не имеет. Никакой медведь или обезьяна с нами в этом не сравнятся. Может быть, в искусственных условиях какую-нибудь обезьяну и можно заставить есть то, что едим мы, но думаю, что она заболеет. Человек в этом отношении очень изрядно над собой поработал.
— Это было нужно для его эволюции?
— Выяснение этих связей как раз и важно, если мы говорим о ранних этапах эволюции, когда только появлялись первые Homo, — стадия Homo erectus и Homo habilis, — когда можно говорить о том, что переход к преимущественно плотоядной диете позволил человеку развивать объем мозга. Наш мозг — очень энергетически дорогая структура, его нужно кормить. И здесь не обойдешься преимущественно углеводной диетой. Нужно много жиров и белков. Это сыграло в свое время ключевую роль. Причем, как всегда в природе, все очень объемно: один признак тянет за собой другой. Приматы всегда были коллективными животными, высокосоциальными, поэтому добывание белков для них было социальной функцией. Они начинали охотиться, а это всегда очень крепкие и сложные взаимоотношения. Охота способствовала развитию социальности, и одно подгоняло другое. Этот стремительный в эволюционном масштабе скачок в формировании крупного мозга от ранних Homo до Homo erectus, видимо, был периодом, когда происходили эти необратимые изменения и в физиологии, и в структуре питания, и в организации всего пищеварения. Результат мы видим на эректусах, которые очень близки к архаичным людям: некоторые из них, продолжая заниматься охотой, начинают осваивать кулинарию.
— Начинают готовить мясо на огне?
— Да. Можно сказать, это самое раннее культурное проявление наряду с орудийной деятельностью. Мы видим на поздних Homo erectus, что начинается изменение зубочелюстной системы. Уже нет потребности в мощности клыков. Это значит, что уровень практики приготовления пищи был достаточно высокий и стабильный. И это повлияло на биологические особенности человека: не надо было расходовать силы на такие избыточные структуры. В природе всегда все очень экономно.
— В природе нет ни одного животного, которое готовит пищу. Либо оно ест то, что ему дали, либо то, что нашло. Зачем люди стали это делать? Поняли, что жареное мясо вкуснее сырого?
— Мне кажется, что прежде всего это энергетический профит. Переварить приготовленную пищу легче, чем сырую. На это уходит меньше сил, меньше времени. Человек — энергетически уникальное, мощное биологическое создание.
— Вероятно, люди эмпирическим путем также поняли, что через сырое мясо передаются разные паразитические болезни, которых можно избежать в результате термической обработки.
— Не знаю, как они это поняли, но здесь действительно очень много плюсов. Хотя паразитарные поражения сопровождают человека во всех эпохах вплоть до недавнего времени. Сейчас это случайность, а буквально до XIX в. — это фоновое состояние. Поэтому, наверное, это в первую очередь возможность насытиться меньшим количеством пищи. Приготовленного нужно меньше, чем неприготовленного. Вокруг этого все время выстраиваются интересные социальные конструкты — кто и что делает. Кто добывает пищу? Какую пищу? Кто ее готовит? Кто ее хранит? Согласно некоторым гипотезам, еще на стадии эректусов возникает та самая гендерная специализация, когда женщина в больше степени собирает и готовит, мужчина — добывает, он охотник-добытчик. Думаю, что проверить, было ли это только так у всех или только у кого-то, сложно, но гипотеза имеет некоторые основания. Но что точно — пищевые инновации всегда связаны с социальной жизнью, поскольку это культура.
— А в какой момент люди начали изображать на стенах пещер животных, на которых они охотились?
— Это верхнепалеолитическое время. Есть широко известные памятники в Европе, у нас на Урале. Поражает то, что человек изображает не пищевой ресурс. Он изображает взаимодействие с живыми и очень значимыми для них существами.
— Почему он это делал? Преследовал ритуальные цели или ему хотелось создать нечто красивое?
— Одно не исключает другого. Безусловно, интересна сама ситуация обнаружения этих изображений в пещерах, которые не имеют естественного освещения. Иногда можно предполагать, что они вообще были очень плохо видны. Это значит, сам процесс создания этого изображения был очень важен и очень сложен.
Мария Всеволодовна Добровольская. Фото Елены Либрик / Научная Россия
— Как они это делали? Один освещает каким-то факелом, а другой рисует?
— Возможно. Часто эти изображения настолько выразительны, что кажется, будто их создавали, даже не имея возможности видеть. Когда мы смотрим на творчество слепых людей, которые тоже занимаются изобразительной деятельностью, мы поражаемся тому, как у них это получается. В общем, здесь много непонятного. Это отдельная сфера археологии, которая напрямую не связана с моими прямыми профессиональными интересами, но, конечно, одно цепляется за другое. Ясно, что взаимодействие человека верхнего палеолита с животными — это далеко не только получение пищевого ресурса.
— Мы говорили, что в вашей лаборатории используются разные методы для анализа найденного материала. Хотелось бы поговорить о новейшем методе — так называемой антропологической генетике. Что это за метод и как вы его используете?
— Палеоантропология всегда стремилась получить как можно более разнообразные и достоверные сведения о людях прошлого. Возможность узнать генетическую основу, связи между группами людей, родственные связи — это всегда было мечтой антропологов и археологов, потому что физическая антропология всегда работала на групповом уровне, строила гипотезы и подтверждала, каким образом группы населения взаимосвязаны. Но возможность именно индивидуальной работы и глубокого погружения с отслеживанием результатов появления мутаций адаптивного порядка, изменения в иммунной системе в связи с изменениями эпидемиологической ситуации в обществе — это было недоступно. И это то, к чему все стремились и делали многократные попытки. Уже в конце 2000-х гг. эти палеогенетические методики начали интенсивно развиваться, появляется то, что называется возможностями полногеномного исследования. Весь геном — и ядерный, и митохондриальный — становится доступным для наших исследований, и это, конечно, стало для нас настоящим прорывом.
— Но ведь такие исследования не может проводить только генетическая или только археологическая лаборатория?
— Это соединение. Генетические методики развивались, совершенствовались в прочтении деградированной ДНК из археологизированного материала. С другой стороны, археологи должны были понимать, какую информацию они могут извлечь из различных материалов. Для археологов и антропологов основная задача в этом комплексном исследовании — скомпоновать те материалы, которые позволят ответить на исторические вопросы.
Есть несколько направлений археогенетических исследований. Первое — очень крупное, когда объединяются сотни образцов. Представьте себе, насколько сложно это организовать. Долгие годы должны быть потрачены на то, чтобы археологи провели раскопки, собрали материалы, антропологи их обработали, и только потом генетики начинают их изучать. Помимо масштабных исследований, существуют другие, крайне сложные ситуации, где их количество ограничено.
Например, в I тыс. н.э. в Европе почти везде мы видим обряд трупосожжения. Почему — это отдельный вопрос, но это так. Эти сильно прокаленные фрагменты костей, к сожалению, не сохраняют ДНК.
— Как же быть в этой ситуации?
— Остаются странные, не совсем обычные ситуации, когда человек либо не был похоронен, либо был неправильно похоронен. Их не может быть много. Например, ранняя славянская тематика — полное трупосожжение. В частности, экспедиция нашего института под руководством Власты Евгеньевны Родинковой проводила исследование памятников раннеславянского времени волынцевской археологической культуры в Суджанском районе, памятник Куриловка. При раскопках поселенческого комплекса остатков жилой постройки были обнаружены фрагменты черепа. Эти кусочки принесли нам, мы провели экспертизу, обнаружили, что это все — остатки одного и того же детского черепа. Хотя это фрагменты, но очень хорошей сохранности. По некоторым признакам мы поняли, что это череп, который вряд ли когда-то был захоронен в землю. Ребенку было около трех лет.
— Как он погиб?
— Неизвестно. Мы стали исследовать — выяснилось, что он был не совсем здоров: то ли это патология беременности, то ли что-то еще. В общем, он был, вероятно, с отставанием в развитии, может быть, плохо видел.
— А как вы это выяснили по останкам черепа?
— У него очень раннее синостозирование лобной кости, имеющей своеобразную форму. Немного выступающий, треугольной формы лоб. Формирование глазниц тоже не совсем в правильных координатах.
— Может, даже слепой.
— Вряд ли. Современная медицина видит таких детей, поэтому мы подобные аналогии и находим. Но он до своих трех лет дожил, и почему-то его изолированный череп находился в доме. Это скорее артефакт, а не погребение. И мы, работая вместе с автором раскопок В.Е. Родинковой, специалистом по ранним славянским культурам, начали свое исследование. Мы вместе очень внимательно разбирали этот археологический контекст. Мы надеялись на очень хорошую сохранность, она оказалась так себе, но ДНК при всем этом сохранилась. Можно было выявить по митохондриальной ДНК людей, которые генетически очень близки этому ребенку. Тут довольно много неожиданностей: они оказались в средневековой Европе. По женской линии наследования оказалась близкой венгерская королевская династия. Близким по митохондриальной ДНК оказался человек в саркофаге Великого Новгорода домонгольского времени.
— То есть для вас загадок стало еще больше.
— Совершенно верно, это обычная история. Но эти связи, эта проницаемость Европы раннего Средневековья становятся очевидными. Здесь у нас никогда не будет большого количества материалов, но мы будем — даже если это единичные экземпляры — относиться к ним с очень большим вниманием.
— В свое время я брала интервью у академика А.П. Деревянко, и он рассказывал потрясающую историю открытия нового вида человека — денисовского. Тогда были бы очень кстати отечественные генетики, но их не было, и в итоге Сванте Паабо получил Нобелевскую премию, а А.П. Деревянко не получил, что кажется мне абсолютно несправедливым. Как вы думаете, теперь этой проблемы не будет?
— Вопрос очень важный. Мы ценим международное сотрудничество, но оно должно быть всегда паритетным — на равных. Мы готовы предлагать друг другу какие-то возможности, но когда мы не можем самостоятельно в полном объеме исследовать наше богатейшее археологическое наследие, это неправильно. Консорциум, который сейчас существует, и те замечательные палеогенетические лаборатории, которые организованы и функционируют в Научно-технологическом университете «Сириус», в ФИЦ «Биотехнологии» и в Институте общей генетики РАН, как раз обеспечивают возможность полногеномного секвенирования археологического материала на должном уровне, а также проведение математического анализа, что не менее важно. Археогенетика — это синтез археологии, антропологии, генетики, математики, биоинформатики. Это поле взаимодействия специалистов таких разных наук. Когда они начинают понимать друг друга, получается замечательный результат.
— А что это за работа по прочтению генома князя Дмитрия Александровича из рода Рюриковичей?
— История началась еще в 2020 г., когда проводились реставрационные археологические изыскания в Спасо-Преображенском соборе в Переславле-Залесском под руководством Владимира Валентиновича Седова. Были обнаружены саркофаги, и один из них, согласно историческим источникам, можно было ассоциировать с погребением князя Дмитрия Александровича, сына Александра Невского. Как правило, для анализа отбирают специфические части черепа — самую плотную кость, где лучше всего сохраняется ДНК. Здесь у нас такого не было, а были отдельные фрагменты посткраниального скелета: шейные позвонки, фрагменты костей стопы. Но все равно удалось извлечь ДНК. Была проведена очень точная работа, и нам удалось понять, что действительно есть основания видеть здесь линию Рюриковичей. Изучение геномов наших современников, которые по генеалогическим документам ведут свою линию от князей Рюриковичей, ранее уже было проведено. Но со средневековыми материалами такая работа проводилась впервые. Это наш первый опыт, и мы очень надеемся, что он будет продолжен. Генетическую историю Рюриковичей мы узнаем лучше. Это удивительно интересно для любого человека, который живет в нашей стране, как мне кажется.
— Какие еще научные планы у вашей лаборатории?
— Мы мечтаем (и стараемся двигаться в этом направлении) о создании современных научных биоархеологических коллекций, необходимых для изучения населения прошлого современными методами. Это методы и археогенетики, и изотопного анализа, и недеструктивные радиологические методы, которые изучают тонкую внутреннюю структуру скелета. Для этого должны существовать обширные хранения палеоантропологических материалов, где каждый индивид имеет свой археологический контекст, зафиксированный при проведении раскопок.
В 2024 г. в «Вестнике археологии, антропологии и этнографии» была опубликована работа о полногеномном исследовании мезолитических останков. Мезолит — это очень отдаленная от нас эпоха: 7–10 тыс. лет тому назад. Очень редкие находки антропологических материалов, и кость сохраняется не всегда, да и население тогда было очень малочисленным. Один из таких редких объектов — стоянка «Ивановское VII», на которой находились разрозненные останки в многослойном памятнике. Их было очень трудно соотнести с определенной культурой. И только благодаря радиоуглеродному анализу стало возможным понять, что останки человека более ранней эпохи были перемещены в более поздний культурный слой. Фрагменты скелета мезолитического времени оказались в слое неолита. Останки этого мезолитического человека содержали достаточное количество деградированной ДНК, что позволило ее секвенировать и сопоставить с современниками. Оказалось, что прослеживается долговременная преемственность буквально с финального палеолита, населения обширных областей: Карелии, Архангельской области, Поволжья. В палеогенетике они получили обозначение «восточные охотники-собиратели». Это население, как показали ранее проведенные генетические исследования, долгое время не встречалось и не смешивалось с группами иного происхождения. Примечательно, что переход в неолитическую эпоху мало что изменил: получение новых культурных навыков, нового социального опыта все равно происходило, судя по нашим сегодняшним знаниям, в той же самой генетической среде.
— Почему важно все это знать?
— Это важные фундаментальные вопросы. Скажем, археолог, когда обнаруживает смену культур, склонен считать, что появилось новое население, которое принесло новую культуру. Иногда это так, иногда нет. Без комплексных исследований мы с этим не разберемся. Поэтому-то мы стремимся, чтобы у нас было обширное хранение, которое позволило бы нам проверять наши гипотезы. Для существования таких коллекций нужны помещения, системы хранения, очень хорошо разработанное информационное сопровождение: базы данных, которые хранят сведения о каждом индивиде. Мне кажется, это та основа, которая обеспечит развитие науки в области контекстуальной антропологии. Без таких коллекций мы не сможем формировать проблемные серии материалов и наполнять их исследованиями.
— Мы с вами обсуждали, чем человек отличается от остального животного мира. Еще одно отличие — наверное, только человек интересуется своей историей, древним миром, тем, какими были его далекие предки, от которых зачастую ничего не осталось. Наверное, если бы мы этим не интересовались, мы бы не были людьми, как вы думаете?
— Совершенно согласна. Мне кажется, одна из фундаментальных поведенческих основ человека — память о предках, уважение к ним и сохранение связи с предками. В разные исторические периоды это достигается разными способами, но это происходит всегда, и будем надеяться, что так будет и дальше.
Память о предках — это базовая культурная характеристика. Иногда она представлена легендарной формой. Например, когда одна культура считает своими предками другую. Носители этой культуры даже могут ошибаться, но они почитают этих, выбранных ими предков, пытаются сохранить все, что с ними связано. Представления о том, какими они были, обеспечивают их устойчивое существование. Соответственно, неуважение к предкам — это проявление деградации.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ