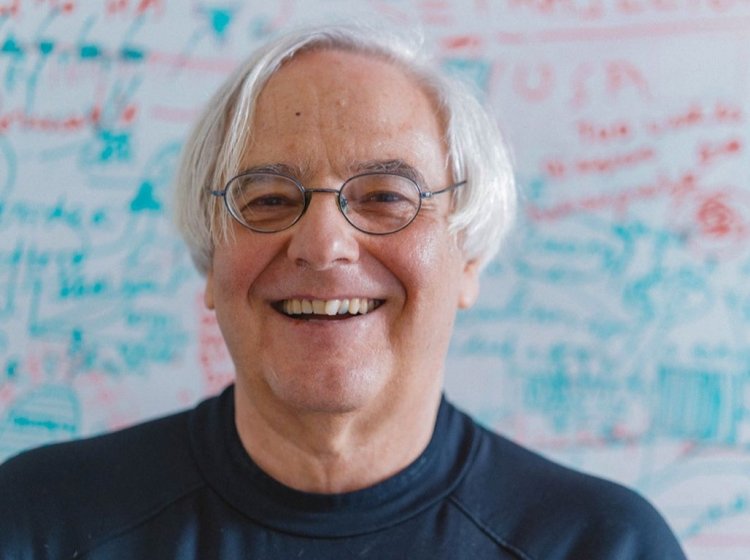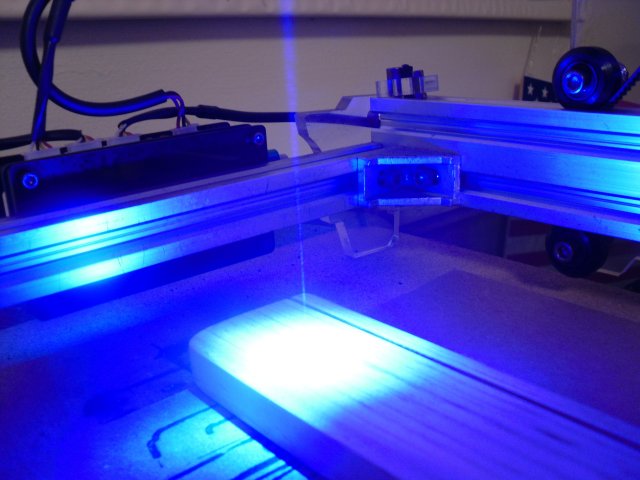Профессор Болонского университета (Италия) Клаудио Франчески (Claudio Franceschi) ― один из ведущих в мире исследователей старения и продления жизни. В 2000-х гг. он возглавлял масштабные проекты в Европе «Генетика здорового старения» и MARK-AGE, что можно перевести как «Отметка возраста». MARK-AGE представлял собой перекрестное исследование (от 34 до 75 лет) для выявления ранних биомаркеров биологического и хронологического возраста, потенциально способных предсказать скорость старения в более позднем возрасте.
В 2017 г. ученый вместе с коллегами из Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского стал победителем мегагранта с проектом «Цифровая персонализированная медицина для здорового старения: сетевой анализ больших многомерных данных для поиска новых диагностических, прогностических и терапевтических мишеней». Лаборатория, созданная Клаудио Франчески, продолжает работу, а сам он ― сотрудничество со специалистами из Нижнего Новгорода. Недавно профессор Франчески приезжал в Россию на конференцию Volga Neuroscience Meeting ― 2025 и выступил там с пленарной лекцией «Часы для стареющего мозга».
― Клаудио, помните, мы впервые встретились чуть больше десяти лет назад на конференции «Генетика старения и долголетия» в Сочи. Тогда же вы пригласили меня в Болонский университет в вашу лабораторию, где мы беседовали о перспективах исследований старения и продления жизни. Что изменилось за эти десять лет и в ваших собственных взглядах, и в исследованиях старения в целом?
― Знаете, всего лишь пару лет назад я был на другой конференции ― в Торонто, куда съехались многие признанные ученые в области продления жизни. Организаторы попросили участников дать определение старению и разослали нам дополнительные вопросы. В итоге все определения получились разными, и практически ни по одному вопросу между исследователями не было согласия. Если сослаться на некоторых лучших ученых в этой области, старение ― феномен, которому очень трудно дать определение.
Я много думал о том, почему так произошло, и пришел к возможному ответу. Проблема в том, что по мере того как мы стареем, мы сильнее отличаемся друг от друга. Существует огромная неоднородность: каждый человек стареет с разной скоростью и по-разному. Как раз об этом я говорил сегодня в своей лекции.
Что мы пытаемся сделать, чтобы как-то унифицировать, оценить этот процесс? «Настроить» часы, то есть создать счетчики биологического возраста. И сегодня научная литература очень богата такими «часами». Есть часы общие, а есть специальные для определенного органа или системы: мозга, сердца, крови… И вы можете разработать эпигенетические, липидомные, протеомные часы и т.д.
Что еще интереснее, неоднородность существует не только между разными людьми, но и в организме отдельно взятого человека. Органы и системы в вашем теле ― мозг, сердце, печень и почки ― могут стареть с разной скоростью. За последние три года в научной печати появилось достаточное количество работ (в том числе и моих), доказывающих, что это действительно так. В частности, исследователи использовали английский биобанк, проверили тысячи людей и подтвердили, что разные органы и системы у конкретного человека стареют по-разному.
Представим: сейчас на планете, скажем, полмиллиарда пожилых людей. И если бы мы могли проверить, как протекает процесс старения у каждого человека, мы должны были бы исследовать полмиллиарда разных возрастов. Единая «формула старения», поисками которой ученые были заняты в течение многих лет, была бы идеалом, но, к сожалению (а может быть, к счастью?), у каждого из нас она своя.
― Но ваш личный подход, ваше видение изменились с тех пор? С момента, когда вы начали проект MARK-AGE?
― Я бы сказал, оно постоянно развивалось по мере того, как мы получали новые знания. Теперь, в том числе и в результате упомянутого вами проекта MARK-AGE и нашей совместной работы с Нижегородским университетом, у нас есть более точные «часы» для определения биологического и когнитивного возрастов. Более того, в своем докладе на конференции сегодня я показал, что существуют «часы» для различных органов. Один из вопросов, который я поднял во время своего выступления: а как насчет возрастных заболеваний? Если врач считает, что у пациента есть проблемы с сердцем, легкими или почками, то можно установить определенные «часы» для возраста различных органов и систем и затем их объединить.
Если бы мы могли сделать это на уровне популяции, это сильно изменило бы гериатрическую медицину. Добавим, что изменения, которые проявляются в старости, начинаются за 20–30 лет до этого. Получается, чтобы бороться со старением и возрастными заболеваниями, мы должны исследовать и лечить более молодых людей. Если мы обнаружим, что у молодого человека есть один или два органа старше его хронологического возраста, мы можем что-то сделать, чтобы уменьшить возраст этих органов. Это означает, что геронтология должна коренным образом измениться и уделять гораздо больше внимания скорости старения молодых людей, а также траектории старения.
― Но ведь этот процесс может в течение многих лет не развиваться, представлять собой своеобразное плато, а в какой-то момент начать резко прогрессировать. Существуют ли критические точки? В каком возрасте?
― Вы совершенно правы. Мы провели масштабное системное исследование 4 тыс. человек и показали, что процесс старения не линейный и существуют три пика: 40, 60 и примерно 78–79 лет. Но здесь мы говорим об общих системных биомаркерах. А если рассматривать отдельные органы, то они могут иметь собственный «график» старения.
Мы находимся в самом начале пути, пытаясь систематизировать все это, всего лишь скребемся в эту дверь.
Конференция Volga Neuroscience Meeting-2025. Фотограф Максим Черствов
― Вы иммунолог и много лет назад выдвинули гипотезу о том, что старение представляет собой «хронический воспалительный процесс». Вы по-прежнему ее придерживаетесь?
― Я давно уже осознал главный парадокс: в молодости и в старости иммунная система должна вести себя по-разному. Если в молодости она подстегивает защитные силы и спасает от болезней, то в старости все наоборот: активизация иммунной системы усиливает воспалительный процесс, который сжигает стареющий организм. Получается, что в пожилом возрасте иммунитет нужно не повышать, а подавлять. И тогда становится понятным, почему некоторые лекарства, например сиролимус (рапамицин), рассматривались на роль одного из геропротекторов. Ведь изначально он был разработан именно для подавления иммунитета и в настоящее время применяется в трансплантологии.
После десятилетий накопления данных о возрастных процессах и хроническом воспалении эта область теперь кажется достаточно зрелой, чтобы позволить интегративную реинтерпретацию старых данных. За последнее десятилетие было собрано достаточно доказательств того, что различные возрастные заболевания, такие как атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа, метаболический синдром, остеопороз, снижение когнитивных функций, нейродегенеративные заболевания, имеют, по крайней мере частично, общий воспалительный патогенез.
Я продемонстрировал в своем докладе, что теперь мы можем количественно оценить, измерить уровень хронического воспаления у каждого человека, идентифицировать, какие воспалительные молекулы проявляются более активно и играют более значимую роль у каждого из нас, и подобрать вмешательства, которые можно предусмотреть для поддержания или улучшения иммунной функции у пожилых людей. Это открывает новые возможности для персонализированной медицины, направленной против старения.
И вместо того, чтобы пытаться что-то понять, изучая пациентов в возрасте 70 или 80 лет, нам следовало бы обратить внимание на тех же людей, но гораздо раньше, лет, скажем, в 40. Такой подход ― замедление старения и предотвращение возрастзависимых заболеваний — должен стать частью общей медицинской практики.
― Мы уже говорим о вмешательствах?
― Да, и это не только лекарства. В недавней статье, которую мы опубликовали вместе с российскими коллегами Михаилом Васильевичем Иванченко и Алексеем Александровичем Москалевым, были предложены две основные стратегии, которые люди могут использовать уже сегодня, и они не столь дорогостоящи. Простая формула: здоровое питание, физические нагрузки и правильные геропротекторы. Да, есть много кандидатов на роль геропротекторов, по мере развития науки появляются все новые, поэтому нужно держать руку на пульсе и очень тщательно проверять, какая доказательная научная база стоит за каждым новым кандидатом.
Но существуют геропротекторы, которые уже очень хорошо изучены, и мы знаем, что одни эффективны, а другие ― нет.
― Но на самом деле простые люди и даже большинство врачей об этом не знают. А ведь геропротектор должен прописать врач, верно? Либо пациент должен стать «биохакером» и сам постоянно мониторить научную литературу?
― Нет, это, безусловно, должна быть рекомендация от врача. А врач должен всегда учиться, читать, мониторить литературу, ездить на научные конференции и многое другое.
― А какая ситуация в Италии? Каково отношение практикующих врачей к персонализированной антивозрастной медицине?
― Сложная. У большинства врачей нет времени учиться, читать литературу. Существует огромный разрыв между наукой и повседневной практической медициной.
― Некоторое время назад обсуждались «модные» геропротекторы, такие как уже упомянутый вами сиролимус (рапамицин). Он все еще на повестке дня?
― Один наш очень уважаемый коллега из Америки посвятил исследованию его геропротекторных свойств много лет и сам его принимал, причем в очень больших дозах. Он был одержим старением. Не так давно он умер от рака в относительно молодом возрасте. Я не связываю эти вещи. Я просто хочу сказать, что это его не спасло, что процессы старения и возникновения возрастзависимых заболеваний гораздо сложнее и подход должен быть комплексным. Плюс ко всему любое хорошее лекарство в больших дозах может стать ядом.
― Я замечаю, что в последние несколько лет исследователи старения и продления жизни стали уделять больше внимания деятельности мозга, вкладу когнитивной нагрузки и вообще роли и влиянию сознания на состояние организма в целом. Вы изучали специально когнитивный фактор в исследованиях долгожителей?
― Знаете, несмотря на рост данных, подчеркивающих важность когнитивных функций для качества жизни в пожилом возрасте, в исследованиях долгожителей больше внимания уделялось их физическому состоянию, а не оценке их реальных когнитивных способностей. Кроме того, этот фактор очень трудно измерить и оценить.
Несколько лет назад мы вместе с группой коллег опубликовали в журнале Mechanisms of aging and development (Volume 165, Part B, July 2017, pages 185–194) обзор, который так и назвали: «Когнитивный статус у пожилых и долгожителей: состояние, определяющее качество жизни, которое трудно оценить методологически » (Cognitive status in the oldest old and centenarians: a condition crucial for quality of life, methodologically difficult to assess).
Здесь важную роль играет неоднородность, как я уже говорил. Люди стареют по-разному, и между долгожителями огромная разница, в том числе и по когнитивным показателям. Здесь важна комплексная оценка состояния организма, которая включала бы и когнитивные, и биологические «часы». Этому и посвящена наша совместная работа с коллегами из России и, в частности, из Нижегородского университета. Так, мы недавно опубликовали работу, которая называется «Эпигенетико-воспалительные часы биологического старения, связанного с заболеваниями, на основе глубокого обучения» (EpInflammAge: Epigenetic-Inflammatory Clock for Disease-Associated Biological Aging Based on Deep Learning), где представили EpInflammAge ― инструмент глубокого обучения, объединяющий эпигенетические и воспалительные маркеры для создания высокоточного, чувствительного к болезням предсказателя биологического возраста. Чувствительность к множеству заболеваний из-за сочетания воспалительного и эпигенетического профилей перспективна как для исследований, так и для клинического применения. EpInflammAge ― это простой в использовании веб-инструмент.
― Ваша команда разработала и «когнитивные часы» …
― Наша совместная статья в журнале «Трансляционная психиатрия» так и называется: «Новые когнитивные часы, соответствующие фенотипическому и эпигенетическому возрасту» (A new cognitive clock matching phenotypic and epigenetic ages. Translational psychiatry, 12/1/, 1–9). Это доступный каждому комплекс когнитивных тестов, обработка результатов которого позволяет предсказывать хронологический возраст со средней абсолютной ошибкой 8,62 года. Примечательно, что эпигенетический и фенотипический возраст предсказывается с помощью этих «когнитивных часов» с еще большей точностью. Мы также продемонстрировали наличие корреляций между когнитивными, фенотипическими и эпигенетическими возрастными ускорениями, что предполагает глубокую связь между когнитивными способностями и статусом старения человека.
― Могу ли я спросить, какие геропротекторы принимаете лично вы?
― Только омега-3. Я очень удачливый человек, потому что постоянно использую мозг для своей работы. Я профессор университета, преподаю, провожу исследования, общаюсь со студентами, езжу на конференции. При этом я как уроженец Средиземноморья всю жизнь на средиземноморской диете… Знаете, в нашем проекте «Генетика здорового старения в Европе» был такой эксперимент: добровольцы из Скандинавских стран в течение года питались только средиземноморской пищей. Результат оказался поразительным: невзирая на возражения многих коллег о том, что особенности каждой кухни обусловлены генетикой и климатом, общие показатели здоровья участников эксперимента за этот год резко улучшились!
Так что я представляю собой удачное сочетание генетики, питания и постоянной когнитивной нагрузки.
Елена Кокурина