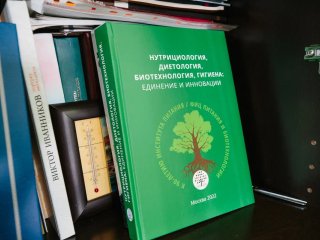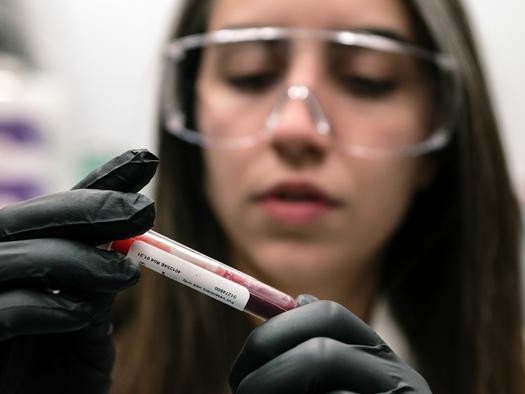Существует ли связь между нашим кишечником и мозгом? Может ли неправильная работа кишечника привести к нейродегенеративным и психическим заболеваниям? Почему ученые во всем мире занимаются такими исследованиями? Какие успехи в этой сфере есть у нашей страны? Об этом рассказывает Валерий Николаевич Даниленко, доктор биологических наук, профессор, ученый секретарь и научный руководитель консорциума «Нейромикробиом», заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН.
Валерий Николаевич Даниленко. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
Валерий Николаевич Даниленко — доктор биологических наук, профессор. Научная деятельность ученого направлена на изучение коммуникации пробиотических компонентов микробиоты кишечника с центральной нервной и иммунной системами человека. Руководимая им лаборатория генетики микроорганизмов в течение ряда лет занимается разработкой фармабиотиков с нейромодулирующей, иммуномодулирующей и антиоксидантной активностью. Валерий Николаевич — специалист в области генетических основ микробных экосистем человека, включая использование сравнительного геномного, метагеномного и транскриптомного анализов при их исследовании.
— Еще не так давно тема взаимосвязи мозга и микробиома вызывала скептическое отношение. Какое, казалось бы, тут может быть взаимодействие? А сейчас появился консорциум «Нейромикробиом» и вы стали руководителем этого масштабного проекта. Заявленной темой занимаются серьезные ученые во всем мире. Означает ли это, что сомнений в существовании подобной взаимосвязи у научного сообщества уже нет?
— Мы продвигаем это направление. Сама идея микробиома как второго мозга, как ключевого интегратора всех сигналов внешней среды, всех органов, систем человека появилась 10–15 лет назад. Сегодня известно, что состояние композиций микробиома в значительной степени определяет наше здоровье. Нарушение функционирования микробиома, исчезновение тех или иных бактерий приводит к различным аутоиммунным, онкологическим, неврологическим патологиям, таким как аутизм и депрессия, чем мы занимаемся сейчас. С этого и начиналось — с этой смелой тогда идеи коммуникации между микробиомом и мозгом. Сейчас это получает новое развитие во всем мире и в России, хотя скептики были, они есть и сейчас.
— Наверное, уже все средства массовой информации облетело ваше утверждение, что микробиом — это второй мозг. Почему вы его так называете?
— Это не я придумал, эта идея обсуждается в мировом сообществе уже достаточно давно. Микробиом называют еще главным коммуницирующим, в определенной степени управляющим органом. Четко установлено, что бактерии кишечника функционируют так же, как наш мозг. Если в мозге есть нейроны, рецепторы, сигнальная молекула, определяющая коммуникации различных частей нашего мозга, то точно так же и в кишечнике бактерии имеют рецепторы, продуцирующие нейротрансмиттеры, нейромодуляторы, нейрогормоны, которые управляют организмом человека. Это единая сеть, нейросистема мозга и кишечника, которая еще не описана, но мы к этому стремимся.
— Почему вы решили заняться этой темой? Ведь на тот момент она была спорной.
— Я заинтересовался этой проблематикой на одной из международных конференций в Германии. Как раз обсуждали новые достижения в области секвенирования. Тогда только появлялись идеи секвенирования и геномного анализа бактерий кишечника. Меня это увлекло. Потом мы участвовали во многих международных симпозиумах, посвященных микробиому кишечника человека, и видели, как все это развивается, хотя определенный скептицизм оставался. Потом, когда уже начали появляться конкретные практические результаты, польза и понимание вопроса, все перешло в русло создания новых лекарственных препаратов — природоподобных, как говорит М.В. Ковальчук.
— Но наверняка в этой теме немало шарлатанов?
— Да. И в Европе, и в России.
— Как в этой ситуации отличить шарлатана от настоящего ученого?
— Как и в любой серьезной науке, работа ученого оценивается по его публикациям в авторитетных рецензируемых журналах, по тем патентам, которые он делает, в том числе международным, по признанию тех докладов, сообщений на международных конференциях, на которых обсуждаются все эти вопросы. Тут важен авторитет ученого. Как правило, те, кто зарабатывает на этом деньги, делают рекламу каких-то псевдопродуктов, которые в лучшем случае зарегистрированы как биологически активные вещества или добавки.
— У вас консорциум — это означает, что вы работаете, объединившись с несколькими организациями. Что это за организации?
— Действительно, наука о нейромикробиоме междисциплинарна. Что такое нейромикробиом? Это совокупность тех генов, продуктов, метаболитов, которые способны синтезировать, продуцировать бактерии кишечника человека и которые определяют и поддерживают гомеостаз человека в области его неврологических состояний. Мы реализовали эту идею в прошлом году в виде создания консорциума, в состав которого вошли ключевые институты Министерства науки и здравоохранения. Это наш Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Научный центр неврологии под руководством академика М.А. Пирадова и входящий в его состав Институт мозга, который возглавляет академик С.Н. Иллариошкин. М.А. Пирадов курирует это направление как вице-президент РАН в академии наук. В консорциум также входит Институт цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске. Этим направлением руководит академик Н.А. Колчанов, биоинформатик, математик, генетик, активно поддерживающий создание единой генной нейросети организма человека. Это сверхзадача нашего консорциума.
Участники нашего консорциума — также Институт питания и биотехнологии Минобрнауки, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, факультеты экологии и медицины. Такое объединение возникло не искусственно, а благодаря тому, что уже у нас были и продолжаются совместные разработки в этом направлении. Они реализуются, финансируются.
— Расскажите подробнее, что это за разработки.
— Одна из разработок, где продукт прошел пилотное клиническое исследование, — создание препарата для снятия депрессивных расстройств. В данном случае это реализуется на модели метаболического синдрома. Депрессия — достаточно гетерогенное заболевание, охватывающее очень большую часть населения в мире, в том числе в России. По оценкам ВОЗ, ее распространение идет на уровне пандемии.
— Мы можем сказать, что у человечества депрессия прогрессирует?
— Да, ВОЗ именно так и утверждает.
— Почему? Какие причины? То, что мы неправильно питаемся?
— Это стрессы, нестабильность в социальной жизни.
— Но стрессы у человечества были всегда, вряд ли их стало больше. Когда за вами гонится пещерный медведь, это, наверное, тоже неприятно.
— Медведь гонится за конкретным человеком, охотником, например. А стрессы, которым мы сейчас подвержены, достаточно массовые. Скажем, процесс глобализации привел к увеличению стрессовых возможностей. Я уже не говорю о ковиде — это была мощная стрессовая ситуация.
— Значит, стресса становится больше, а устойчивость к нему не растет?
— Не растет. Иммунный статус человека снижается. По каким причинам — это тема для отдельного исследования.
— А микробиом тут при чем?
— Дело вот в чем. Сегодня основные препараты при депрессиях — это антидепрессанты, транквилизаторы, которые синтезируют химическим путем и достаточно широко используют. К ним происходит привыкание через три-четыре года. Они перестают действовать, от них побочные эффекты. Вся медицина, как мы знаем, персонализирована. Стояла задача попытаться создать новые природоподобные препараты. О том, что некоторые пробиотики способны снимать определенные депрессивные состояния, было известно и вопрос этот исследуется в течение последних пяти-семи лет. В наших и других обзорах говорится об этом. Нам предстояло отобрать из сотен тот, который был бы способен синтезировать как лекарственный препарат определенные фармакологически активные ингредиенты, снимающие депрессивные состояния. Эти ингредиенты многофакторны, поскольку их синтезирует наш микробиом. Возвращаясь к вопросу, почему микробиом: потому что он в значительной степени определяет стрессоустойчивость человека. Стрессы бывают социальные, физические, химические, экологические и т.д. Очень хороший пример — Арктика. Когда человек туда попадает, выдерживают далеко не все. Примерно 30% людей примерно через три месяца или полгода возвращаются: у них начинается дисбиоз кишечника, возникает депрессивная ситуация. Если они остаются, начинаются кардиологические заболевания. А источник — это изменение условий, стресс.
— То есть стресс первичен?
— Да. При сильном стрессе разной природы микробиом — первое, у чего нарушается функционирование.
— А если при этом принимать пробиотики?
— Конечно, они пытаются принимать, но, как правило, не помогает.
— Почему?
— Сегодня пробиотики — в основном бактериальные препараты, зачастую с плохо изученными ингредиентами, определяющими их потенциальную биологическую активность. Это, по сути, кот в мешке. Мировые тенденции связаны с созданием «живых» биотерапевтических препаратов, основанных на функциональных бактериях кишечника человека и нацеленных на лечение конкретных заболеваний. Они обладают установленным механизмом действия и содержат выявленные фармакологические ингредиенты. Это такой же сложный процесс, как и создание других современных лекарств. Как правило, существующие на рынке пробиотики не проявляют антидепрессивного действия. Задача нашего консорциума состоит в разработке лекарственных препаратов нового поколения. В первую очередь это нейробиотики с антидепрессивной, антипаркинсонистской активностью, а также другие, способные излечивать различные нейродегенеративные заболевания. Это мировая тенденция. Десятки крупных фармкомпаний мира работают в этом направлении.
Но есть одна важная особенность создания таких препаратов: возможная региональная персонифицированность направленных на микробиом фармабиотиков. Сегодня нужно учитывать, что различные популяции людей в мире отличаются по композиционному составу микробиома кишечника. Это необходимо принимать во внимание при разработке фармабиотиков. Персонифицированность здесь особенно важна по той причине, что созданные в Китае или Германии фармабиотики могут быть неэффективны для россиян.
— Но ведь не все люди, попавшие в условия стресса, испытывают все эти проблемы…
— Примерно треть или четверть людей, которые попадают в ту же Арктику, не испытывают нарушений функционирования микробиома кишечника. Они стрессоустойчивы. Таких людей, что называется, берут в космонавты. И сегодня мы выделяем у космонавтов бактерии, которые отвечают за стрессоустойчивость. Идет поиск таких бактерий — лакто-, бифидо- и других, которые определяют стрессоустойчивость человека.
— Как вы выделяете этот штамм у космонавтов?
— Тут нам в помощь Институт медико-биологических проблем РАН — у них большая коллекция таких штаммов, мы сотрудничаем. Некоторое количество лет назад они передали нам часть коллекции в рамках совместного проекта, и мы провели скрининг, обнаружили на моделях паркинсонизма подходящий штамм. Секвенировали, провели протеомный, метаболомный анализы, выяснили основные потенциальные фармакологически активные ингредиенты, которые определяют его свойства. Сейчас заканчиваем в рамках совместного проекта доклинические исследования, в следующем году планируем проведение клинических исследований этого препарата. Как оценивают наши коллеги-медики, ничего подобного в мире никогда не делалось.
Валерий Николаевич Даниленко. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
— А что за проект у вас с Институтом питания и биотехнологий?
— Параллельно мы пытались выяснить, что за гены, что за метаболиты отвечают за устойчивость к стрессу. Мы отобрали в течение ряда лет штамм — «антимиф», как мы его назвали, и провели его испытания на группе пациентов, страдающих метаболическим синдромом — ожирением. Они проходили обследование в клинике Института питания и биотехнологий под руководством профессора Антонины Владимировны Стародубовой, директора этой клиники. Мы отобрали пациентов, которые при этом страдали депрессией. Провели на них испытания нашего нового препарата. Оказалось, что по самоощущению и биохимическим показателям он показал достаточную эффективность. Теперь мы планируем проводить клинические исследования на стрессах, связанных с другими заболеваниями и факторами. В частности, это студенты РУДН.
— Во время сессии?
— Не только. Студенты, будь то иностранные или российские, те, кто приезжает из различных регионов или стран, селятся в кампусах, и первые два-три года жизни для них достаточно стрессовые по многим условиям. Скажем, совсем другое питание, другой менталитет.
— Даже язык другой.
— Стрессы имеют различную природу, это не только испуг перед пещерным медведем. Это проблема, известная во всем мире, и, чтобы помочь адаптироваться к этой ситуации, у нас есть совместный проект с РУДН и с Новосибирским государственным университетом, в рамках которого мы начинаем исследование микробиома студентов в момент приезда, через полгода, через год: какие происходят изменения, нарушения. Да, сегодня микробиом, как и любой орган, поддается описанию с точки зрения нормы и при патологии. Как и любой орган — по биохимическим, метаболическим потенциалам. Он более изменчив, более лабилен, но есть корневые гены, без которых наше здоровье страдает. Если их нет, неизбежны нарушения иммунитета, человек долго жить не будет.
— Я слышала, что существует трансплантация микробиома, когда от здорового человека делают его пересадку человеку с кишечными проблемами. Этими исследованиями вы занимаетесь?
— Нет. Это так называемая фекальная трансплантация, которая развивается уже достаточно давно. Да, в определенных случаях она делается. Речь идет в первую очередь о тяжелейших заболеваниях кишечника, с которыми человек жить не может. Есть бактерии, которые вызывают и онкологию, и другие патологические процессы. Для этих случаев и сегодня это разрешено делать. Проблема фекальной трансплантации в том, что в медицине нет регуляторных механизмов, которые можно было бы использовать как лекарство. Микробиом кишечника, как стало ясно, помимо полезных и нейтральных бактерий содержит патогены и условные патогены. Поэтому вопрос выбора доноров стоит очень остро. Можно трансплантировать патогенные бактерии, которые вызовут целый ряд осложнений. В настоящее время это направление развивается, но тут есть определенная опасность, и об этом нельзя забывать.
— Все больше появляется сообщений, что в разных регионах России есть клиники, где в неврологических отделениях пытаются лечить людей с помощью диеты. Как вы к этому относитесь? Можно ли с помощью специально подобранного питания вылечить, например, аутизм?
— Аутизм — очень гетерогенное, сложное заболевание. Вместе с Пироговским университетом мы проводим проект «Микробиом и аутизм». Мы установили, что действительно есть корреляция между аутизмом и нарушением в составе микробиоты. Но все не так просто. Нужно выделять определенные группы пациентов, и для них видно, что это связано с нарушением микробиоты, которая может быть восстановлена определенными типами специализированного питания.
— Но это работает не у всех?
— Нет, и это не излечение. Это позволяет поддерживать ребенка в более или менее нормальном состоянии. В итоге все равно нужны препараты, созданные на основе бактерий кишечника, которые позволили бы восстановить нарушенные функции.
— Как вы считаете, этот штамм будет работать и на других нейродегенеративных заболеваниях, в частности на болезни Альцгеймера?
— Нет, мы так не считаем. Мы сейчас отобрали штаммы, работающие на моделях паркинсонизма и депрессии, и это разные ситуации. Болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и другие заболевания имеют общие черты, но у них есть различия. Поэтому и препараты нужны разные. Ученые пытаются последние десять, 20 лет искать лекарства, находят, но они работают не на всех пациентах, идет опять же привыкание, и они только замедляют развитие болезни. В данном случае стоит задача создать препарат, который бы в той или иной степени излечивал больных.
— Потому что он будет действовать на саму причину болезни?
— Да. При развитии паркинсонизма происходит постепенное накопление нарушения в десятках различных органов человека. Начинается все с воспалительного процесса, нарушения проницаемости функционирования кишечника — его нужно восстановить. Потом — нарушения энтеральной нервной системы, которая окружает кишечник. Происходят оксидативные окислительные процессы на фоне воспаления, которые вызывают нарушения в работе митохондрий нейронов и формирования телец Леви. Это белки, которые начинают неправильно собираться в условиях окислительного стресса, образуются конгломераты неправильно собранных белков. Потом это передается через блуждающий нерв в центральную нервную систему, в головной мозг. Гематоэнцефалический барьер не так уж непроницаем, как о нем долгое время думали. И вот этот процесс начинается уже в мозге. Когда происходит деградация в черной субстанции мозга, разрушение нейронов, ничего уже нельзя восстановить. Помимо этого, нарушения происходят в дофаминергической и эндокринной системах, а также в десятках других. Препараты, которые создают сейчас, направлены на определенную биомишень. Но потом возникает множество побочных эффектов. Поскольку паркинсонизм — это десятки разных нарушений, нужно, чтобы был комплекс каких-то веществ. Мы заняты как раз созданием таких комплексов: есть люди, у которых нет паркинсонизма, но обнаружены устойчивые к нему микробы. Мы там ищем и уже нашли штамм, который содержит по крайней мере полдюжины противовоспалительных медиаторов, на которых мы видим, что каждый из них воздействует на разные биомишени.
— Правильно ли я понимаю, что подобный путь вы проходите с каждым заболеванием?
— Да. По такой же аналогии нужно двигаться и с болезнью Альцгеймера, и с рассеянным склерозом. Надеюсь, в следующем году проведем клинические исследования и они будут успешными. Здесь отличия от проведения клинических исследований обычных веществ, которые синтезируются химически или выделяются из отдельных бактерий, растений, почвы, весьма заметны. Там при проведении исследований на каждой стадии отсеиваются десятки, а то и сотни кандидатов. Хорошо, если в итоге один подошел. Для природоподобных этой проблемы нет. Здесь все более быстро и перспективно, к тому же направленность на несколько биомишеней сразу. Создав такой пилотный проект, дальше будем переходить и на болезнь Альцгеймера, и на другие нейродегенеративные заболевания. Точно так же как с депрессией — от одной группы к другой. Сегодня участники консорциума имеют некоторое базовое финансирование реализуемых проектов. Но создание фармабиотиков, проведение их клинических исследований требуют интегрированного межотраслевого проектного финансирования.
— Наверное, никто не станет спорить, что профилактика всегда лучше лечения. А мы все-таки говорим об уже состоявшихся заболеваниях. Как вы думаете, есть ли какие-то меры, которые зависят от каждого из нас, чтобы не допустить развития всех этих болезней? Как я поняла, нам всем надо учиться устойчивости к стрессам. А этому возможно научиться?
— Сразу отвечу на ваш последний вопрос: конечно. Во-первых, существуют различные практики — и медицинские, и психологические. Это аутотренинг. Второе — это функциональное питание, его адаптирование к твоему организму, выбор его вместе с профессиональным врачом-диетологом для понимания природы своих заболеваний. Нет абсолютно здоровых людей. Как шутят медики, есть недообследованные. Поэтому — правильное, лечебное питание, но не из интернета.
— Вы для себя нашли такой способ правильно питаться?
— Стараюсь придерживаться здорового питания. Давно уже не употребляю сахар, соль. Стараюсь, чтобы больше было овощей, фруктов, чередовать мясные и рыбные блюда. Конечно, не всегда получается. Вот от острых блюд не могу отказаться — нравится и все.
— Как я вас понимаю!
— Но если вернуться к вашему вопросу о профилактике, то в этом направлении мы тоже работаем. У нас есть индустриальный партнер, который развивает направление создания потенциальных лечебных, функциональных, профилактических продуктов питания, которые бы предупреждали депрессивные расстройства и нейродегенеративные заболевания. Это большая, успешная инновационная компания. Они ориентируются на создание продуктов именно на основе наших штаммов и технологий — от молочнокислых до шоколада, хлеба и чего угодно.
— Даже шоколад!
— Да, такой шоколад уже делают. Уверен, что скоро такие продукты будут широко доступны и помогут многим людям не допустить развития многих тяжелых состояний, от которых бывает непросто избавиться.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ